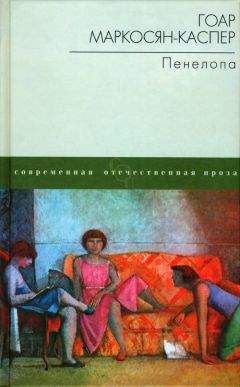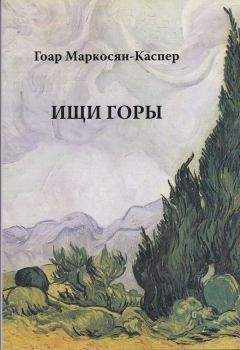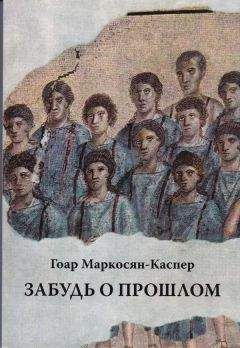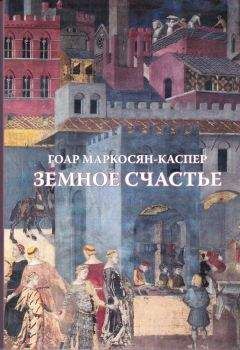Ознакомительная версия.
— Кто это был? — спросил Армен мрачно. — Надеюсь, ты не станешь утверждать, что замаскированный Вардан?
— При чем тут Вардан?! — возмутилась Пенелопа. — Я упомянула о Вардане только потому, что он твой приятель. И передавал тебе привет.
— Спасибо. И откуда же ему известно, что я приехал?
— А ему неизвестно. Он имел в виду средства связи. Он же не подозревает, что ты укатил и канул в небытие. Как во времена древних греков, когда не было ни телеграфа, ни телефона, ни даже почты.
— Зато была верность, — хмуро буркнул Армен. — Твоя тезка, в частности, двадцать лет сидела без мужика, но не каталась на вшивых «Мерседесах» всяких подозрительных нуворишей и не трахалась втихомолку с так называемыми женишками. Или я что-то путаю?
— Не путаешь, — ответила Пенелопа язвительно. — Продолжай.
— Жаль, что ты берешь пример не с нее.
— А с кого же?
— Ну, я не великий знаток изящных искусств…
— Послушать тебя, так я чуть ли не какая-нибудь Молли Блум.
— Это еще кто?
— Вместо того чтобы поминать всуе старика Гомера («которого ты тоже знаешь понаслышке», — подумала, но не сказала она, чрезмерно унижать мужчину не след), прочел бы Джойса, — объяснила с чуть насмешливым превосходством Пенелопа, сама дошедшая лишь до второй главы, но предварительно проштудировавшая последнюю, самую пикантную, о чем узнала от Анук, непостижимым образом добравшейся до конца романа (перескакивала небось как минимум через каждое третье предложение — Пенелопа упрямо не желала допускать даже мысли о существовании на планете, во всяком случае, во второй половине двадцатого века, индивидуума, способного одолеть целиком томище, которым можно забивать не только гвозди, но и опоры для электропередач). — И не ори так, соседей перебудишь. Я уже не говорю о маме, она наверняка не спит, караулит. Услышит, начнет скандалить, знаешь ведь.
— Знаю, — проворчал Армен, хотя, если честно, ничего он не знал, на собственном опыте уж без сомнения, ибо Клара была не из тех дам, которые устраивают скандалы посторонним или при посторонних. Головомойки, которые она задавала Пенелопе за перебуженных и назавтра не то чтоб обращавшихся с жалобами, но непременно докладывавших о насильственном пробуждении зловредных соседок (в первую очередь комоподобной Иды и да-будет-светской мадам, вечно развешивавших свои якобы сонные уши в непосредственной близости от зоны, где парковался Армен), происходили за закрытыми дверями, в узком, сугубо семейном кругу. Впрочем, назвать упомянутые процедуры головомойками означает допустить некоторую неточность, поскольку под головомойкой подразумевается, надо полагать, прискорбный случай, когда один (одна) моет голову другому (другой), а с Пенелопой все проходило отнюдь не так гладко, образно говоря, она частенько ухитрялась шайку кипятку, предназначенную для ее пышноволосой головки, опрокинуть на руки, если не на макушку кандидатки в банщицы. Несмотря на подобные осложнения, а может, и благодаря шансам на таковые, мать никогда не упускала случая ввязаться в драку — надо ввязаться в драку, а там посмотрим, как сказал Наполеон или не Наполеон, а другой забияка вроде Наполеона, Клары или той же Пенелопы, поскольку Пенелопа, как известно, любила скрасить пресное однообразие мирного сосуществования своевременно затеянной ссорой, в этом они с матерью были схожи, как их же большие пальцы на ногах, крупные и кривоватые. Заметим, что люди никогда не затевают ссор, если сам процесс ссородейства не доставляет им удовольствия, человек вообще очень редко добровольно занимается вещами, не стимулирующими центры наслаждения в его многострадальном мозгу. Пенелопа с Кларой, несмотря на постоянные декларации о миролюбии, на деле тяготели к войне, напоминая тем самым почивший в бозе Советский Союз. Однако война, которую они вели между собой, будучи, естественно, и холодной, больше заслуживала названия ночной. Клара, которая признавала лишь одну модель внутрисемейных отношений — диктатуру, притом с собой в качестве диктатора, полагала, что члены семьи обязаны блюсти установленные ею (в соответствии с общеармянскими стандартами, разумеется) нормы и не выходить из сколоченных ею же рамок, в частности, дочерям долженствовало переступать порог отчего дома (в направлении снаружи внутрь, конечно) не позднее двенадцати ноль-ноль. Посему она дожидалась упорно вытаскивавшую из рамок материнской работы все новые гвозди Пенелопу ежевечерне и с заслуживавшим уважения постоянством разыгрывала сцены, разнообразя их, как прирожденная актриса и недюжинный драматург. То она изображала безутешную мать, без пяти минут утратившую почти единственную дочь, то суровую блюстительницу нравов, оскорбленную легкомыслием неудачно воспитанной ею девицы, то просто смертельно усталую немолодую женщину, мечтающую о постели (в контексте сна, разумеется), но вынужденную до двух часов ночи поджидать предающуюся сомнительным развлечениям особу, по недоразумению приходящуюся ей дочерью. Что именно предстояло сегодня, Пенелопа пока не знала, как и каждый раз, она краешком сознания — при скептическом неверии остальной его части — надеялась, что мать легла спать, и лучше не будить лихо, пока оно тихо.
— Пойдем в машину, — предложил Армен. — Домой же ты меня не пригласишь?
— В двенадцать ночи?!
— Не ори, — иронически осадил ее Армен. — Перебудишь соседей. Не говоря о матери. Еще выльет нам на голову ведро холодной воды. У вас ведь есть вода? Не то что у нас, парий.
«Пария» жил на проспекте Маштоца, в хорошо скроенном и крепко сшитом здании постройки пятидесятых годов, но воды там не бывало почти никогда, как и в большинстве других домов этого столь привлекательного для снобов района.
— Не выльет, — буркнула Пенелопа, направляясь тем не менее к машине. — Вода, может, и есть, но окно открывать холодно.
В машине было тепло и комфортно, не так, как в «Мерседесе», конечно, но вполне приемлемо.
— Так кто же это был? — снова спросил Армен, теперь уже повернувшись к Пенелопе и испытующе глядя на нее. Как человек наивный, рассчитывая поймать ее на лжи. Ну да, бегающие глаза, дрожащие губы, трясущиеся руки, что там еще?
— Да так, старый приятель, — ответила Пенелопа беспечно.
— И чего он от тебя хотел?
— Ничего особенного. Замуж звал.
— Ну и как? Согласилась?
— Пока нет. Обещала подумать.
Это был один из немногих случаев в жизни Пенелопы, когда она говорила чистую правду, одну только правду и ничего, кроме правды, никаких фантазий, гипербол, даже малюсеньких, незатейливых, несущественных словесных украшений, но, несмотря на это, а может, и именно поэтому, ее объяснения звучали малоубедительно.
— Понятно. Старый приятель, который забрел на огонек к дяде Манвелу… в этом-то совершенно ничего удивительного нет, человек увидел свет в окошке, ну подумайте, в полном мраке — и вдруг освещенное окно, как не зайти, всякий зайдет!.. забрел, встретил там тебя, а что, и не такое случается, вспомнил, какой прелестной юной девушкой ты когда-то была, ну и, естественно, немедленно предложил руку и сердце. Или предложил подвезти, а уж по дороге решил не останавливаться на достигнутом и…
— Перестань, пожалуйста, — попросила Пенелопа хладнокровно. — Чего ты, собственно, бесишься? Сам ведь уехал, два месяца ни слуху ни духу…
— Ни два ни полтора. Ни дна ни покрышки. Ты что, думаешь, я там отдыхал? На высокогорном климатическом курорте с сероводородными и радоново-озоновыми ваннами плюс лечебный ультрафиолет и мощное психотерапевтическое воздействие водопадов?
— А там есть водопады? — заинтересовалась Пенелопа.
— Бог его знает. Там есть пациенты, это факт. Прочего не видел.
Вот трепло! Не видел. Увы, проверить, так ли это, Пенелопа решительно никакой возможности не имела. Был ли грот, где чернокудрая нимфа, пастушка и воительница, отложившая веретено, иглу, спицы и взявшая в руки АК, гладила под журчание родничка пристроившего голову на ее обтянутых камуфляжем коленях утомленного Эскулапа-Одиссея по высокому-высокому лбу (что греха таить, Армен гораздо ближе к лысине, чем Эдгар-Гарегин, ползучая плешь отвоевывает все новые участки, возвышая его лоб до бесконечности)? Или не было никаких гротов, пещер и водопадов, а где-нибудь в госпитале медсестра в кокетливой косыночке… почему медсестра?.. медсестры!.. две, три, пять медсестер, толстушек и худышек, длинноволосых и со стрижечками, густо накрашенных и с целомудренно не тронутыми макияжем лицами, и все грациозно вытанцовывают, черта с два, неуклюже топчутся вокруг молодого (почти сорок лет старикашечке), симпатичного (помесь Пьеро с Арлекином) холостого доктора, хлещут за его здоровье медицинский спирт, упиваются до положения виз… каких еще виз, Пенелопа, не виз, а риз, откуда это, неужто пьянство священников аж в поговорку вошло?.. неважно, главное, Цирцеи-свинюшки берут тем, что операционные инструменты в их власти… но Армена им не заграбастать, зря стараются — если стараются, может, все это твои фантазии, Пенелопа, ну что ты за ревнивица такая, венецианская мавра… мавра, Мавритания, маврикия, Мавроди, у МММ нет проблем… а у Пенелопы есть. Навалом. Хотя если следовать размеру, надо сказать: у Пенелопы… м-м-м… у Пенелопы нету попы. В рифму. И такое же вранье, ибо есть она у Пенелопы, есть, надо срочно похудеть… впрочем, позвольте! Явился Армен, а Армен чересчур худых не любит, это положительный факт (от слова «положить»). Но он ревнив. Это факт отрицательный. Правда, не настолько ревнив, как хотелось бы.
Ознакомительная версия.