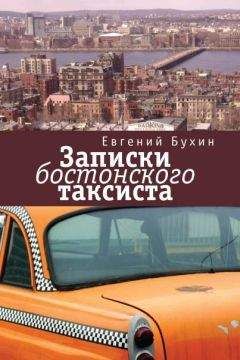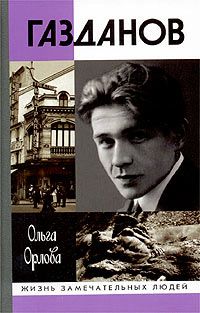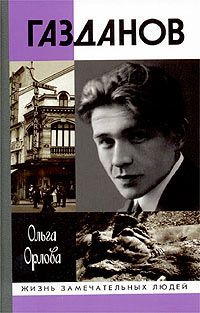«А почему ты, собственно, поехал – в Квинс?»
Как это «почему»? Да просто потому, что я не бандит с большой дороги, а в Квинсе расположены самые ближние еврейские кладбища. Я ведь не ставил себе целью ободрать, как липку, безответного джентльмена из Мельбурна. Я только одного хотел: чтобы это была моя последняя работа на дню…
«Но разве так поступил бы на твоем месте порядочный человек? Разве не должен ты был подсказать приезжему из Австралии, что еврейских кладбищ в НьюЙорке много, и для розыска могилы нужна еще хоть какаянибудь информация?…»
«Порядочный человек»?! Ишь, какими словами попривыкли разбрасываться! Да к вашему сведению, если бы у меня совсем уже совести не было, я бы такого Мельбурна – заплатил я за него пять долларов или не заплатил? – поволок бы прямо на мост Вашингтона и начал бы розыски – с Нью-Джерси!..
«Ох, кэбби, кэбби, тебя не переспоришь… Но позволь задать тебе еще один вопрос: с кем это ты все время беседуешь?.. Ну, допустим, кое-где, помнится, обращался ты к читателю; это еще куда ни шло. Таксисту можно простить столь „свежий“ литературный прием. Но кого это ты постоянно подталкиваешь игривым локотком? С кем – сшибаешься? Кого избрал ты себе в качестве такого удобного оппонента, все доводы которого тебе известны заранее и которого ты непременно и так легко побеждаешь? А?..»
Не ваше дело! «Оппонента»! Вы что, никогда не видели, как кэбби, крутя баранку, доказывает что-то, доказывает! Гримасничает. Злится. Иронизирует… Вы – оглядываетесь, а на заднем сиденье – никого. Кэбби один в своей желтой клетке… Ему, стало быть, приятно поговорить с «умным человеком». Я лично, еще когда только обживался в гаражном чекере, так вошел во вкус – ого-го!.. Бывало, еду, болтаем… Занятный получается разговорчик: остроты с обеих сторон так и брызжут; а сзади слышу: «бу-бу-бу, бу-бу-бу!..» Суется идиотский пассажир в чужую беседу. А, чтоб ты скис! Ну, чего вам, мистер, от моей души надо? А пассажир как разозлится: «Отцепись от меня! О чем мне с тобой говорить? Я сам с собой разговариваю!..»
Нью-Йорк, Нью-Йорк…
Гоняя желтый кэб по Нью-Йорку, в каких только местах не сподобился я побывать. Возил я клиентов и на скачки в Бельмонт, и на бега – на вечерние ипподромы: «Йонкерс» и «Рузвельт»; на рок-концерты и на бейсбольные матчи, и в зоопарк, и в тюрьму, и в парки, где играют в гольф, и на аэродромы для маленьких частных самолетов, а вот на кладбище еще не был ни разу…
Пока мистер Мельбурн беседовал с прислужниками смерти, я бродил среди могил и только дивился, как много уже похоронено здесь эмигрантов из России – моей, «третьей волны»: тех, кто рвался в Новый Свет вместе со мной в погоне за лучшей долей… под каменными плитами успокоились и активист-отказннк, пробивавший дорогу в свободный мир не только себе, но и всем нам; и худосочный Юлик Смульсон со своей скрипочкой-четвертинкой, которому там, в Советском Союзе, была закрыта дорога в консерваторию; и просто СОФОЧКА ЦАМ, игриво приподнявшая ПУХЛЫМ плечиком шлейку чуть-чуть более чем следовало бы откровенного – для кладбища – сарафана…
С белых фаянсовых овалов, укрепленных на памятниках, мне улыбались такие привычные, такие понятные мне лица.
Еврейская бабушка в русском платочке…
Еврейский дед – комсомолец двадцатых годов, в рубахе с украинской вышивкой…
Евреи с печальными грузинскими глазами и грузинскими фамилиями…
Уже в Бруклине, на том кладбище, что выходит одной своей стороной на северный отрезок Ошен Парквей, молчаливый господин из Мельбурна нашел-таки то, что искал, словно иголку в сене – свежий, еще не оплывший под дождями холмик, обозначенный воткнутой в грунт табличкой:
SHIRLEY COHEN
1961–1979
Но тут от неожиданности я охнул и отступил на шаг. С соседней, вертикальной, в мой рост, плиты на меня глядел – исчезнувший Узбек. Я не мог обознаться, это был он – 2W12…
Для надгробного памятника вдова Узбека выбрала фотографию не того несчастного моего сверстника, который нянчил больную руку и с вымученной железнозубой улыбочкой просил у меня таблетку, а жилистого, уверенного в своих силах работяги, который был отцом ее детей и которого она так упорно тянула из родного Самарканда – в Америку!..
Почему он умер так рано, бугай-экскаваторщик, настоящий еврейский муж, который не пропивал зарплату, а приносил жене – всю до копеечки. Он крепко пил, но – по праздникам. Рассказывал, что запросто «переходил за литр»… Что сделал с этим атлетом желтый кэб в считанные два-три года!..
Но так ли уж назидательна была для меня участь Узбека, который не слушался ни Доктора, ни мудрого Шмуэля, ни Длинного Марика, хотя они все желали ему добра. Узбек думал, что он умнее всех: не стоял под отелями, не желал знаться со швейцарами, «пахал» от зари до зари, и вот результат… Моя же таксистская карьера складывалась по-иному. Я проработал всего лишь немногим более года, а уже возвращался домой все чаще и чаще – засветло. И дело тут было не в «отмычке» – «Разменяй-ка пять долларов!» – и не в случайных поездках в Лонг-Айленд или Вестчестер, которые выпадали ведь не чаще, чем раз в неделю.
Дело же было, как я теперь понимаю, в том, что проехав тысяч пятьдесят миль, пообщавшись с двадцатью примерно тысячами пассажиров, проиграв свой первый штраф «Остановка запрещена» и «отгавкав» второй – «Soliciting»; да еще научившись, не моргнув глазом, обманывать своих товарищей – ибо за чей же счет доставались мне «дальнобойные» рейсы без очереди? – я стал настоящим кэбби!
Глава девятнадцатая
«Мы друзья Гелия Снегирева»
Чем лучше шли мои дела в такси, тем хуже и хуже обстояли они на радио. Всего лишь девять с половиной минут в неделю «наговаривал» я в студии записи, но установленный в ней микрофон обладал крайне неприятным свойством. Каждого, за кем захлопывается звуконепроницаемая дверь, микрофон просвечивает насквозь, и – куда там детекторам лжи! – читает, словно по книге, самые затаенные твои помысли. И если сознание сотрудника вещающей на соцлагерь радиостанции наводнено соображениями, связанными с куплей-продажей ценных бумаг, датами и адресами всевозможных аукционов, сведениями о круизах, шубах и прочих западных соблазнах, микрофон превращает его – в приживалу, в ничтожество, боящееся потерять легкий эмигрантский заработок и потому заискивающее перед американским боссом…
Полноценным сотрудником микрофон «Радио Свобода» позволяет чувствовать себя только тому иммигранту, который, оказавшись в свободном мире, год за годом продолжает жить духовной жизнью, бедами и болью той страны, которую покинул!.. Я же, хотя и не помышлял ни о предметах роскоши, ни о спекуляции, но все-таки цены на бензин, которым я заправлял кэб, беспокоили меня больше, чем международные цены на зерно, о закупках которого я рассказывал советскому слушателю… И чтобы как-то извинить самого себя и за это, и за то, что ни руки, ни душу невозможно было отмыть от дружбы со швейцарами, я снова и снова хватался перечитывать исповедь Гелия Снегирева: «Я никого не предал, не продал..»
«И зачем он об этом пишет? – думал я. – Ведь если бы он кого-то выдал, ну хотя бы людей, через которых передавал свои рукописи на Запад, это стало бы известно всем. И еще до того, как он умер, последовали бы новые аресты, новые процессы, репрессии…»
И все-таки я не мог избавиться от ощущения, будто эти страницы, написанные самым честным человеком из всех, кого я когда-либо знал, хранят в себе какую-то нечистую тайну…
Вот сентябрьским солнечным днем по Тарасовской улице по направлению к Ботаническому саду шагает бодрый сорокадевятилетний Гелий… Он давно готовился к аресту, и, оказавшись наконец в тюрьме, радуется каждой прогулке в тесном дворике, обнесенном высокой бетонной стеной: радуется тюльке на завтрак, радуется трубке и табаку, переданными с воли женой, и с ребяческим удивлением записывает: «Да, здесь радуешься всему!..»
А вот упоминание о голодовке, которую Гелий снял, так ничего и не добившись… Почему внимание мое сосредоточивается именно на тех подробностях, которые, вроде бы, ничего значительного не проясняют: после провалившейся месячной голодовки Гелий восстанавливает силы, что называется, не по дням, а по часам; и опять, и опять записывает, что сердце у него, как у спринтера; что он живет с постоянным ощущением пронзающей душу радости…
Как же это понять: почему вокруг заключенного, который практически здоров, вдруг замельтешили, заплясали белые халаты?
С чего бы? Заключенный ничем не болел и не болен. Так, иногда – хандра, иногда – жалобы на застарелый радикулит, но, поди ж ты – врачам виднее. Переполошились, выяснив, что Гелий Иванович плохо спит… Не помогло снотворное?.. Назначили коктейль из трех препаратов посильнее, инъекционно… Едва произнесено слово «стенокардийка», как в тюремной камере, словно это палата кремлевской больницы, появляется внимательнейший кардиолог, который ежедневно снимает кардиограмму, пичкает Гелия дефицитнейшим панангином, созывает консилиум из трех врачей.