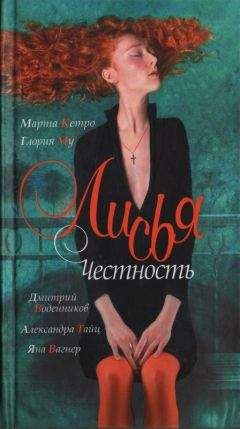И не понять, когда это начинается, ведь сначала всего-то и нужно — прижать его руку к своему лицу (сначала к щёке, потом чуть повернуть голову, губы к ладони, обежать языком линию сердца, прикусить пальцы). Серебро на безымянном, царапина на запястье. Думала, жизни не хватит, чтобы перецеловать.
А глаза были вот какие: медовые. На лугу, где трава пожелтела, где пчёлы собрали запах от красных цветов, и от белых, и от всех трав; где солнце разливало золотое молоко — там заглянула и подумала: не насмотреться.
И во всякой толпе обнимала, прижималась боком, и грудью, и спиной, вилась вокруг, как лисий хвост, трогала и ладонью, и локтем, и коленом, и плечом. Запускала руку под рубашку, гладила, царапала и щипалась тоже, потому что невозможно не прикасаясь. Думала, не отпустить.
Только не уходи, миленький, никуда от меня не уходи, дай на тебя смотреть, и сам на меня смотри, и трогай, и улыбайся. Если надо, я под дверью подожду, только не долго. Работай, конечно, главное, не отворачивайся от меня, никогда не отворачивайся. Сделай так, чтобы я была спокойна, думай обо мне всё время. Просто пообещай. Мне никто не нужен, кроме тебя, и тебе никто не нужен, раз я есть.
Почему так нельзя? Почему нельзя всегда быть вместе, за руки держаться, разговаривать? Разве это плохо? Есть правда: любить. Есть предательство: обманывать. Всего-то честности хотела.
Как только не обнимала: и дыханием одним, и плющом, и паутиной, и железом. Убегает.
Плакала, курила, объясняла, кричала, проклинала, прогоняла. Возвращается.
Чтобы мучить? О чём думает? О чём ты, гадина, думаешь, глядя на меня желтыми глазами, чем ты пахнешь опять, чем ты опять пахнешь, что у тебя в волосах, сколько можно врать, о чём ты думаешь, скажи мне, скажи.
Не скажет. Потому что не любит лгать, но нельзя же сказать, как есть, — что думает он об утке-мандаринке, которая на закате вплывает в оранжевую полосу на воде и выплывает, возвращается и снова уплывает.
Повторяй «люблю», пока не стошнит
Когда бы я ни посмотрела в его сторону, перед ним всегда скакали женщины с воплем «о, как я тебя люблю!». Взгляни на меня, взгляни — как крепко я тебя люблю. Нет, на меня — я люблю тебя преданно. А я, а я — я страстно тебя люблю. «Никто не полюбит тебя так, как я», кричали они хором. Они слагали к его ногам дары — сердца, плохие и хорошие стихи, младенцев, оргазмы, попытки самоубийств, лучшие годы, слёзы, иногда деньги.
Мне стыдно, и, чтобы выпустить кровь, прилившую к щекам, хочется расцарапать себе лицо, от позора разрезать живот: ведь и я так же скакала, уверенная, что делаю тебя бессмертным, плету бесконечную лестницу, по которой мы взойдём на белые небесные луга и там останемся.
Но теперь я тебя не люблю.
И так, как я тебя не люблю, никто тебя не любит. Я не люблю тебя талантливо, роскошно, само- и тебязабвен-но. На крыльях моей нелюбви я поднимусь высоко, гораздо выше, чем когда-то поднималась с любовью. Я нарисую твой портрет тысячи раз, и тысячи женщин зарыдают и влюбятся насмерть. И ты скажешь: «Как же вы достали со своей любовью».
Нет, не то, не то («они положили сырой порох, Карл»). Сейчас очень важно быть точной: я хочу, чтобы мёртвая любовь сделала мир лучше. То, что не удалось живому, может сделать мертвый.
Брошенные женщины бывают, как слепые лошади, — её уже отпустили с повода, а она всё ходит и ходит по кругу. Бездумно складывает в стопки вещи, из которых выветрился и никогда не вернётся запах табака и кожи. Готовит на двоих. Мимоходом прижимается щекой к рукаву старого осеннего пальто, оставленного за ненадобностью. И хочется взять её под уздцы и свести с воображаемого помоста, на котором она вращает ворот, шаг за шагом. Иногда это удаётся сделать другому мужчине, но потом, когда и он исчезнет, она вернётся к своей каторге, просто перебирать станет уже другие свитера и футболки, не в серо-синей гамме, а в зелёной. Она прикасается к ним и думает, что никакая не лошадь, а цветок, который поворачивал голову за солнцем, и что ослепла, глядя на него слишком близко и неотрывно.
Мне больно смотреть на тебя, моя радость, говорит она. Мне больно смотреть на тебя, моя радость, говорю я. Потому что не лошадь, не цветок и не женщину, а ещё один невоплощенный божий замысел я вижу, когда ты медленно перекладываешь вещь за вещью, навсегда утратившую запах кожи и табака.
Моя осень прекрасней вашего лета
Когда заканчивается любовь, победителей не бывает, только дезертиры и проигравшие.
Даже в самом лучшем случае, когда уходишь от того, кто сделался безразличен, прерывая нежизнеспособные отношения по собственной воле, пытаешься завершить дело быстро и чисто, всё равно остаётся чувство, что пришлось голыми руками добивать мелкое издыхающее животное.
А уж когда этот мёртвый зверёк — твоё собственное сердце, поражение очевидно. Будто взяли тебя на ручки, приласкали, рассмотрели — и отпустили брезгливо. Не хороша, не годишься, не понравилась (или подобрал бы, да негде держать).
Потом, когда первая боль утихает, может случиться подъём: если человек не совсем уж воинствующий неудачник, вероятен карьерный взлёт, достижение невиданных доселе высот духа или хотя бы удачный брак. Это потерянная душа пытается доказать себе свою ценность, подвывая на манер рыжей Муравьёвой — «всё равно счастливой стану, всё равно счастливой стану, даже если без тебя, бя-бя-бя». И доказывает, и становится. Сначала ищет новую звезду взамен утраченной, постепенно увлекается, и ей просто начинает нравиться жизнь — вообще, безотносительно к.
Ну а потом они снова встречаются. К примеру, он звонит или пишет. Как дела, как успехи? Ты по-прежнему? Молодец. А раньше ты… Ну-ну.
Это называется «светская беседа», но сколько бы лет ни прошло, стоит повесить трубку, как воспарившая было душа почему-то немедленно падает оземь. Потому что вдруг оказывается, что все её победы были во многом вопреки. И что ничего она ими не доказала. Карьера, высоты и брак — это другое, другое поле. А он возвращает на то, прежнее, где ты безнадёжно проиграла. И ты опять только нелюбимая им девочка. Воздвигнутый бастион оказывается всего лишь мемориалом над тем полуразложившимся зверьком, которого три — пять — восемь лет назад придушили двумя пальцами.
О, психолог бы сказал, что нужно избирать другую точку отсчёта, выстраивая систему координат вокруг себя, а не вписываясь в чужую. Ну или что там говорят психологи в таких случаях.
Но ты вешаешь трубку, ты садишься на пороге фальшивого замка, ты закрываешь глаза. Потому что сердце давно залито бетоном в фундаменте, но призрак бродит по дому в качестве любимого домашнего животного, и вот сейчас он дрожит. Любви давно нет, но поражение осталось.
По руке
«Не реви, дура, всё тебе будет. И цветы, и звонки, и замуж позовёт. Хотеть будет — очень, всё время. Руки будут дрожать, от одного твоего слова умрёт, оживёт и снова умрёт. Как захочешь, так и закрутишь, а он только — «лишь бы ты была счастлива». И ревновать, конечно, как зверь, мебель крушить. Тебя — нет, ну что ты, ни одним пальцем. Потом прощенья попросит. Подарки, а как же, всё, что пожелаешь, и ещё много, чего и не скажешь — сам. И путешествовать. Обязательно сделает, и мальчика, и девочку, как же без этого. Никогда не бросит. А если загуляет — вернётся, прибежит, куда денется. Как же тебя не любить? Да. Да.
Нет. И не думай! Не этот. Другой. А этот — не будет. Появится другой, и всё тебе будет. Полюбит. Ты? А ты его — как получится. А с этим — никогда и ничего. Говорят, ну да, говорят, они всегда обратно приползают — и всегда потом, когда уже не надо. Но ты не жди, запомни: с этим — никогда и ничего. А так, да, всё будет — и цветы, и замуж, чего реветь-то»
Не греши напрасно, иди домой
«Нет никакой магии, не существует. Или есть, но не работает. Или работает, но неправильно.
Вот садишься и начинаешь, делаешь, как учили. Кто, кто научил? Неважно, много было желающих, чуть меньше — умеющих, и один, кто наказал смотреть за людьми, как они правят странную тайную службу — вроде ни над чем, ни о чём, ни для кого. И ты, как они, не спеша, вытягиваешь длинную белую руку, тянешь её и тянешь, не секунду-другую, а день за днём. Змеится по улице, когда надо — поднимается над домами; иногда уходит в землю, перетекает в воду; когда прорастёт, а когда взлетит. Дотянется — и тронет. Чаще — висок. Потом затаится — ведь такие бывают, что и отрубить могут. Через положенное время вернётся — погладит глаза. А потом вдруг ткнёт в живот, без шуток, печень найдёт и двинет. После губ коснётся, будто поцелует. Серия ударов — быстрых, коротких, летучих.
Оставит в покое. А потом не скрываясь возьмёт за сердце и прижмёт.
Да много разного есть. Или словами, или предметами, или чем захочешь можно.
Одна беда: когда его, наконец, прихватит, так плохо станет, что лучше бы не родился, — даже и тогда он не подумает о тебе. «Хреново, скажет, помираю». Ляжет, в самом деле, и помрёт. Или выправится.