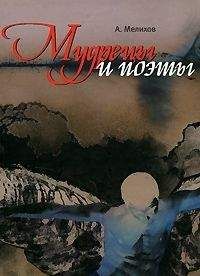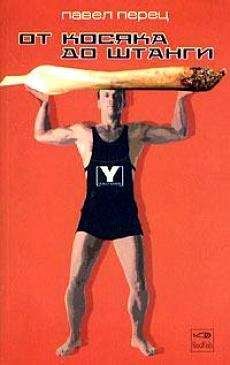С месяц назад мой пацан зачастил в соседний двор, но скоро почему-то перестал. Оказалось, в том дворе нет командира, а в нашем есть – Витька, и даже сам он имеет троих в подчинении.
– Так ты, оказывается, любишь командовать?
– И нет! Пусть другой кто-нибудь командует, а я буду подчиняться. А у них говорят: принеси насос, будем обливаться, а он говорит: да пошел ты! Сам принеси. Это ведь уже получается не отряд, а… просто люди!!! Видел бы ты, с каким изумленным презрением выговаривались эти «просто люди»!
Так вот, район – это были аморфные «просто люди», а край – кристаллизированное боевое содружество. Внутри оно, конечно, тоже было неоднородным, но против чужаков – более или менее цельным.
Сам я жил на довольно-таки респектабельной авеню – с халупами, собаками, огородами – на границе Центра и Шанхая, – притом в Шанхае у меня довольно порядочно было дружков, – но и то я чувствовал, что наш край – это мне не по чину. А Валерка жил хоть и недалеко от меня, но в отчетливом Центре, да еще в трестовских домах, чьих несовершеннолетних обитателей называли лягашами. Только в самое последнее время с пяток энергичных ребят довели было Центр до уровня края , но они, не задержавшись на этой стартовой площадке, быстро ушли на повышение – в тюрьму. Да притом и ясно было, что Валерка имеет в виду не Центр в целом, а что-то несравненно более узкое. И однако – Валерка сказал: да будет край! – и стал край. То мы были в равном положении, а тут вдруг в далекий край товарищ улетает, а я остаюсь. Так нет же, лечу за ним!
В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ
И вот я переступаю заветный порог. Позади – Вовка, раздраженный тем, что тоже не может справиться с робостью. Теперь-то ясно, что это как раз Валерка огребал в свою кодлу сразу и самого сильного, и самого умного – да притом и самый умный далеко не слабак, и самый сильный далеко не дурак, – но тогда… скорее паломник в Мекке мог бы предположить, что оказывает Пророку честь своим визитом.
Прудниковы жили в одном из двух имевшихся в городке «каменных» домов, роскошь которых простиралась до теплых клозетов, – Валеркин отец сидел на кадрах в тресте «Каззолото», или просто Тресте. Так что роскошь ожидалась и внутри. Роскошь – но не музейная сказочность: гнутые чернолакированные ножки, инкрустации, пышнейшие лампы-цветы из бронзы, меланхолические залитые луной ландшафты на шкатулках «из Тюрингии дубовой, из Саксонии сосновой» и контрастно-индустриальные «танковые» часы из вороненой стали на стене. И вершиной всему – кинжал с насечкой, запутанной, словно прожилки на листьях, и витой перламутровой рукояткой. Кинжал был обрезанной шпагой – на обрезании, как, вероятно, уступке местным обычаям, настоял районный прокурор.
– На хранение холодного оружия длиннее тридцати двух сантиметров требуется разрешение областных органов, – зловеще сообщил Валерка.
– А конец куда дели? – это я с тайной безумной надеждой.
– Не помню, закинул куда-то, – рассеянно отвечает Валерка.
Это высочайший шик: для других недосягаемая мечта, а ты и не помнишь, куда закинул. Я, в общем, уже умею понимать такие вещи, но… в вопросах жизни и смерти нельзя пренебрегать ни малейшим шансом.
– Если найдешь, дашь мне? – с жалкой улыбочкой дребезжу я.
– Конечно, забирай, – отмахивается Валерка. – Знаешь, как оно мне все надоело!
Перешли в «детскую», – Валеркиной мамаше явно недоставало вкуса в названиях: тут имя «боевой уголок» – и то было бы слишком вялым. Здесь не было уже ничего барочного (барочное для меня звучит как что-то среднее между порочным и бардачным). Могло показаться, что ты попал в капище огнепоклонников: на стенах пламенели исполинские костры Синопа, Наварина и Чесмы, на помощь дедам мчались цельнометаллические внуки: крейсеры, линкоры, эсминцы (посрисовывать бы, посрисовывать!..). Все венчалось плакатным фризом из всевозможных морских орденов – экзотический орнамент был до отказа набит самыми восхитительными в мире предметами, на которые я всю жизнь мечтал налюбоваться досыта, – якорями, и притом недостижимо симметричными. Сколько их я перерисовал в уединенные минуты робких наслаждений, в которых мечта заменяла обладание: пыхтишь, бывало, выводишь якорь на спасательном круге… А якорь-то косой, а круг-то кривой, – но все же подпорка хилому воображению. А тут у человека целый гарем! (Но все же не Валерка вскормил во мне эти страсти. Он их только использовал.)
А в центре капища, как и положено, восседал идол – «Генка». Тяжеловатое мускулистое лицо – точь-в-точь у таких, только бронзовых, вокруг фонтанов изливается вода изо рта – ужасно неэстетичное зрелище. Неподвижный взгляд, веская речь, с перебоями, но как по книжке, а это для меня тоже не последнее дело. Читающие пацаны – да и взрослые – тянутся друг к другу среди нечитающих, им все же больше есть о чем поговорить, а людям свойственно наличие общих тем для разговоров принимать за наличие общих жизненных интересов.
Генка мрачно всматривался в альбом с Костиными рисунками, – Костя в просительной позе вслушивался в веско роняемые замечания, смешанные с историческими справками:
– Нахимов решил войти… В Синопскую бухту двумя… Колоннами… И атаковать… Неприятеля. Сам он находился на… Восемьдесятчетырехпушечном линейном корабле «Императрица Мария». Неверно, Костя. У Нахимова козырек был круче. Почти как нос.
Вот так. Турецкие корабли вспыхивали… Как факелы. Бомбические орудия… «Парижа» и… «Великого князя Константина»… шквальным огнем… наносили огромный… вред турецким… судам. Неверно, Костя. Геральдика строится по законам. Голубой цвет обозначает… Водную стихию. Синий – воздух… верность. Зеленый – надежду. Черный – бесстрашие… землю. Серебряный – знание… приверженность.
Это совершенно некстати напомнило мне ухажерский язык цветов, о котором я наслышался возле старших сестер моих приятелей. Валерка представил нас, не без яда отметив мою склонность к чтению. Генка немедля развеял мою дутую репутацию.
– Читал «Над Тиссой»? – в упор спросил он.
– Нет, – смутился я (а все отец виноват!).
– А «Тарантул»?
– Нет, – растерялся я (у, папка!).
– А «Один в поле воин»? – так мне послышалось.
Я поник головой.
– Прочитай. Это все сильные книги, – заключил Генка с сумрачным упором на «сильные». Я поспешно обещал (и исполнил).
А пока мне вручили тонкую книжку про партизан, которую я засунул за пояс и прочел в тот же вечер. Оказалось, что профессия партизана чрезвычайно увлекательная и вполне безопасная. Налетай себе на комендатуры да захватывай трофеи и «языков», которые в подштанниках выпрыгивают из окон, а в остальное время пой песни у костра, где жарится шашлык, особенно если в отряде имеется веселый повар-армянин. Я даже в том чаду засомневался, за что тогда автор называет их героями- мстителями.
– Можно показать ему твою картину? – снова подвернулся Валерка.
– Покажи, – снисходительно позволил Генка.
Валерка мигом раскатал рокочущий ватман и тут же дал ему со свистом завиться обратно. Я успел заметить только корабль без единого неоприборенного пятнышка – что-то вроде электронно-вычислительной машины, как их изображают на карикатурах, – и темно-синее небо с пылающими вангоговскими звездами. Небо рассекалось ослепительными прожекторными лучами, которые складывались в какую-то дату – не успел разглядеть в какую. Я онемел.
Валерка принялся демонстрировать мне фотографии разных знаменитых кораблей и о каждом, пронзая меня стальным зрачком, тоже как-то пронзительно провозглашал что-нибудь вроде:
– В тот день наш «Гремящий» и был гремящим.
– На предложение сдаться эсминец открыл огонь и кингстоны.
Потом мы рассматривали картинки в книгах, перед каждой книгой условливаясь, на какой стороне, левой или правой, корабли и танки – Валеркины, а на какой – мои. Самые лакомые куски доставались Валерке, но мне с головой хватало и объедков. У меня прямо руки зудели посрисовывать, но не хотелось срамиться. Как сквозь сон до меня продолжали доноситься Генкины наставления:
– …Под Гангутом русские… Разгромили шведов… Захватив десять кораблей и контр-адмирала Эреншильда…
Заглянул Валеркин отец, но и в тот раз, и в последующие он не оправдал моих ожиданий. Спрашивал только: «Ну что, караси?» Чувствовалось презрение родоначальника морской династии к пресноводной рыбе. И Валеркиной преданности нашему делу он не обнаруживал: брал чей-нибудь рисунок, разглядывал, произносил удовлетворенно: «Из тэтэшника залепил (из макаровца, из пэпэша и т. п.)» – и удалялся. Дети явно переросли отца.
Мамаша у них была еще более обыкновенной трестовской дамой. Таких у нас тогда называли домохозяйками; по-моему, это прозвание все-таки принижало их, хотя и возвышало над просто неработающими женщинами. Заметив у меня книжку про партизан, она дала мне напутствие: