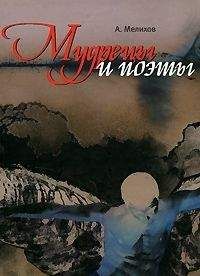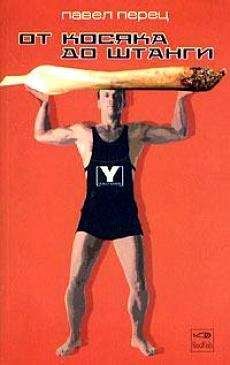Вторым, кого я знал, был Владька Успенский, пацан довольно начитанный, а это, я уже говорил, тянет нас друг к другу; пусть даже один уклоняется в историческое, а другой – в фантастическое с незаслуженной прибавкой «научно» – все равно они выделят друг друга из толпы. Впоследствии Владька тщетно пытался придать нашим занятиям мушкетерский характер. Он упорно называл наши сабли шпагами, а не шашками, как все, и даже подбил нас троих (меня, Валерку и Вовку) забраться на автобазу и спороть с кабин старых «Урал-ЗИСов», которые у нас называли «Урал-дрова», дерматин на плащи. Однако все, вслед за Валеркой, стали называть эти плащи бурками. В данный момент Владька, вихляясь, прохаживался взад-вперед с рыцарским шлемом – ведром на голове, запрокинув голову, чтобы что-нибудь видеть, и гулко мыча оттуда на мотив «Цыпленка жареного»: «Я банда-шайка, я банда-шайка…»
Остальные не дали повода узнать их имена. Здесь было собрано все самое сопливое и вислогубое, что могли поставить два десятка окрестных бараков. Вся эта шушера была младше нас и сидела на корточках с серьезностью, доходящей до безразличия, – хоть бы знать мне тогда, что индейцы тоже так сидят, – я бы их провел по какой-нибудь более приличной статье. А то… даже договаривать неохота.
И это был мой край!
Да и можно ли считать это – краем ! А собственно, почему бы и нет? Где написано, что такое край ? Но так ведь и я могу набрать десять пацанов, и получше этих, и назвать их краем, – да, но как поверить в значимость того, чему сам же дал значимое название? А этот край , по крайней мере, я нашел уже готовым, с традициями, так сказать. И потом, если я создам еще один край – это будет уже инфляция. Словом, если я желал иметь край , выбирать не приходилось. Только тут я до конца понял, до чего мне хотелось иметь свой край , до чего я устал быть бескрайним.
КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ
Валерка раздал оружие с немного удивившим меня по-хозяйски ворчливым добродушием – так наша бабушка разбрасывала корм курам, – и бойцы приняли это с удовольствием, хотя выраженным и слабовато, как и все их эмоции. Мы с Вовкой сразу получили что-то возле майора, догнав Владьку и Дирвотину (и Валеркиного отца), а когда мы впятером последними остались в сарае, Дирвотина вывернул из кармана здоровенную пригоршню ранеток, взъерошенную от гибких стебельков, и оделил нас. Я окончательно убедился, что принадлежу к лейб-гвардии. Не могу сказать, что это было мне неприятно. Надеясь, что и Вовка размяк от своей привилегированности, я, улучив момент, шепнул ему восторженно:
– Генка – а?! – каков, мол.
Вовка покривился – он вообще не любил телячьих восторгов – и, дернув плечом, ответил:
– Ему жениться пора, а он командует соплячьем…
Я поспешно оглянулся на Генку. Он враскачку, будто по палубе, вышагивал поодаль от нас, загребая пыль, неедленно уносимую прочь раскаленным азиатским ветром, подобно дымовой завесе. Он шел, будто сам по себе, а оружие его нес ординарец. Руки Генка держал так, словно в парадных штанах нес два ведра дегтя – это руки сами так стояли от избытка мускулов, многие для этого даже бинтовали себе подмышки. В посадке рук, как и во всякой чрезмерно обнаруживаемой роскоши, был не только шик, но и вызов. Я знавал ребят, у которых в школе, например, локти топырились по высшему разряду, а на танцах висли как плети.
Я попробовал пробить в Вовкином нигилизме другую брешь для своего восхищения:
– А танковые часы?
– Угу. Думает: чего бы еще упереть? А, часы еще остались!.. Давай, скорей, обдирай, – Вовка пояснил это серией хлопотливых движений.
Я отвернулся и вымарал этот разговор из памяти – но, как видишь, не насовсем.
В тот раз личному составу были розданы шашки, потому что ожидалась «конская» атака. Она вполне оправдывала свое название – мы, как кони, мчались вокруг сопки. Валерка с гиканьем впереди, Владька рядом, прочая лава разворачивалась тоже не без азарта – я хорошо слышал, как кое-кто выпевал себе под нос конское ржание и стук копыт: тыкдык, тыкдык, тыкдык.
Генка, погруженный в раздумье, словно мираж, колеблемый маревом, сидел на вершине сопки. А через горы и моря с отеческой заботой вглядывался в нас Георгий Сорокин.
Мы начинаем «сдыхать». И я впервые подумываю: а каково же было настоящим солдатам!..
– Я быстро устаю, – кротко пожаловался Дирван нам с Вовкой, – а Валерка – как олень!
Я испугался, что Вовку стошнит от такой безвкусицы, но он только сплюнул и с передышками пробормотал, что Валерка, видимо, торопится в зоопарк, пока не закрыли, а он, Вовка, сейчас плюнет и пойдет домой.
– Но Валерка же бежит!
– Ему надо – пусть он и бежит. А я пойду.
Но это Вовка просто душу отводил, а так-то он знал не хуже нас, что кто бы куда бы ни бежал – отставать все равно стыдно.
Наконец мы доскакали до какой-то канавы, истребили там все живое и на рысях тронулись дальше, оставив на пепелище ревущего сержанта, которому угодили деревянной гранатой по голове.
Вдруг Валерка скомандовал:
– Стой! (Раз-два!) Кру-гом! – и, вдохновенно сверкая глазами, обратился к догоняющему нас всхлипывающему младшему командиру:
– Товарищ сержант, как вы посмели оставить свой военный пост? Вы больше не сержант. Георгий бы Сорокин на тебя посмотрел! Шуруй отсюда, пока не вломили. Пошли, братва, обойдемся без сопливых, – последнее было сказано очень ласково.
Мы потянулись к Генке, искоса поглядывая на разжалованного, который на приличной дистанции плелся за нами, и ощущая себя дружным высококачественным стадом, перепортить которое не удалось одной паршивой особи.
– Орлы! – мрачно грянул нам навстречу Генка и приступил к раздаче орденов, вырезанных из газет и журналов и раскрашенных вначале старательно, а потом все хуже.
Тем временем бывший сержант бочком-бочком подобрался к нам и влился в ряды. Валерка якобы не заметил. К несчастью, ордена наши можно было носить только в кармане и лишь изредка любовно раскладывать, разглаживать и разглядывать. А лучшие из лучших могли надеяться со временем быть представленными… – угадал кому?
О НАГРАДЕ
Интересно: Шопенгауэр утверждал, что ордена – это векселя, выданные на общественное уважение, и ценность их зависит от кредита заимодавца. А у нас было наоборот – выданные награды сами повышали Валеркин кредит: ведь, оспаривая Валеркин авторитет, каждый тем самым оспаривал бы их ценность. Все вспоминается Наполеон: «Неужели вы думаете, что можно заставить людей сражаться, действуя на них рассуждениями? Они годятся только для ученого в кабинете. Солдат дерется из-за славы, отличий, наград».
Кстати, о славе. Этой весной здоровые олухи из двух наших бараков затеяли стравливать между собой малышню, и мой дурак явился домой, гордо неся под глазом и на губе векселя на общественное уважение, выданные ему соперниками.
– Дурак ты. Тебе набили физиономию другим дуракам на потеху, а ты хвастаешься.
– Я им больше набил!
– А зачем, спрашивается? Да и твои-то синяки от этого не пройдут.
– И пускай! Мне нравится бурная жизнь. Зато слава! – все хвалят, все говорят: молодец, победил! Витька мне руку поднял… – с застенчивой нежностью.
– Давай, я буду тебя лупить и приговаривать: молодец, победил, молодец, победил?
– А! Нет! Если бы я по правде победил…
– Скажи, что тебе больше нравится? – вот ты построил дом, в нем люди живут, говорят тебе спасибо. Но не очень часто – сказали раз и живут. Или тебе лучше – идешь по двору, а сзади мальчишки шепчутся: вон, вон он идет, он вчера десять человек избил. Что бы ты выбрал?
Борьба была мучительной, но краткой. Победила честность.
– Нет, если шепчутся, то лучше шепчутся.
Так что задатки у него недурные. Но все равно домашняя среда заест; вырастет циник, предпочитающий пользу блеску, зануда, перед каждой схваткой желающий знать, что он защищает и зачем, от кого и для кого. Я ведь тоже тянулся к сиянию славы, а тружусь на ниве просвещения, да еще в заслугу норовлю себе возвести. А яблоко от яблони…
И, кстати, об отличиях: Валерка опять-таки не мог создать, но лишь использовал чрезмерно простодушную форму нашего тщеславия: кто бы и за что бы тебя ни выделил – все равно хорошо. Так что ценность награды заключалась в том, что ее получали не все. Этой же цели служили наказания, которые сплачивали вокруг Валерки тех, кто им не подвергся, – кара, в сущности, тоже награда – для уцелевших.
Ценилась, разумеется, лишь словесная готовность служить, но почему-то не все это понимали.
ВРЁМ
Хвастовство начиналось уже по дороге на базу. Хвастались и подвигами в сражении, но больше битыми мордами – все больше у Него же. Возбужденные враньем и своей численностью, мы шли по городку, как по завоеванной стране, беспрестанно пробуя зудевшими шашками прочность попадавшихся заборов и примериваясь к встречным пацанам – они бы нас отлупили или мы их. И всегда получалось, что мы (если явно было видно, что они, этот вопрос предпочитали не поднимать, но что такое «явно»! – оно редко встречается).