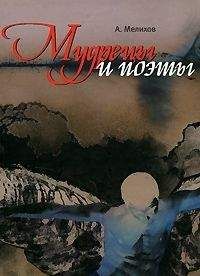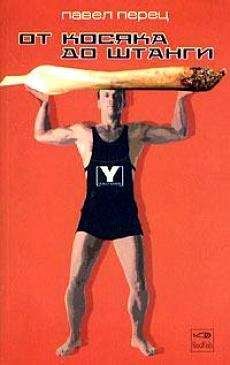Однако, как это всегда бывает, я стал неосознанно искать мальчика для порки – модель Валерки, в которой я мог бы безнаказанно бичевать Валеркины пороки (неплохо бы, чтобы и Валерка узнавал в нем себя). И в который уже раз за двести лет в эти мальчики снова угодил Маленький капрал. Я как раз – кажется, тоже еще в порядке повышения квалификации – осилил его биографию у Тарле, и по многим ухваткам это было именно то, что нужно. И заступиться за него было некому: он был не наш и ходил у нас третьим сортом, за то что ему навтыкал Кутузов. Правда, укрепив свое влияние, Валерка стал гораздо терпимее и к чужим богам.
Я начал потихоньку обнародовать разные компрометирующие материалы из жизни Первого консула, и вначале не без успеха. Однако Валерка быстро учуял, что Бони под моей кистью все больше превращается в обобщенный символ милитаризма и автократии, и стал вступаться за него все энергичнее и энергичнее и наконец внезапно объявил, что Наполеон – истинно великий человек, чью непогрешимость не удастся замарать грязным языкам мелких завистников. Подобно библейскому Валааму, я вместо проклятия благословил Наполеона. Валерка тоже нашел мою модель удобной для пропагандирования своих вкусов.
Тогда-то Валерка и ввел меня в штаб, вероятно чтобы держать под контролем, а также потому, что и сам вошел во вкус наполеоноведческих дискуссий, в которых постоянно торжествовал надо мной, потому что я не умел спорить, не приводя доводов, а в них-то и был самый смех.
Но поскольку человеку думающему всего нестерпимее улюлюканье вместо хотя бы и самых убийственных опровержений, ибо это есть поругание не только его лично, но и мысли вообще, – поэтому я предпочел пусть и поражения, но в настоящих дискуссиях, и, чтобы создать таковые, я принялся сам подбирать аргументы для Валерки. Я опасался, конечно, что бесповоротно гублю остатки былой репутации умника, но я не мог и оставить Валерку беспрепятственно травить раненых и расстреливать заложников, для нашего же якобы блага – не надо мне такого блага! У него получалось как-то, что чем больше зла натворишь сейчас, тем из него больше добра почему-то получится в каком-то последствии.
Вел меня не ум, а интуиция, – но до чего же ловко!
И я обратился за помощью к дяде Мише, у которого было много «военных книг». Дядя Миша наверняка был самым начитанным человеком в нашем городке. На поверхностный взгляд, он мог показаться непоследовательным, если не заметить, сколь неуклонно он следует неизменному правилу: всегда утверждать обратное тому, что в данный момент утверждает данный собеседник. Обычно его возражения бывали цитатами – чуть ли не для этого он и книги читал. Процитирует он, скажем, Чернышевского: «Я ставлю свободу выше жизни», а когда с ним согласятся, особенно если поспешно, он добавит: «Карамзин говорил, что народы дикие любят свободу, а цивилизованные – порядок». Иногда он принимался всерьез толковать о религии – в наше время это такой же признак свободомыслия, как в прежнее – волтерьянство. Но чуть ему начинали поддакивать, особенно если высокопарно, он вдруг задумывался и пожимал плечами: «Зачатие без порока? Я предпочитаю порок без зачатия». Но такие люди небесполезны все-таки – не дают окончательно закиснуть мозгам, напоминают, что могут быть и другие мнения, кроме твоего и твоих приятелей. Правда, всерьез, кажется, к его репликам не относились, это была как бы тоже такая манера шутить. Может быть, поэтому он охотно беседовал со мной. Его педагогическая смелость проявлялась и в довольно редкой прямоте словоупотреблений.
В последний раз мы славно с ним побеседовали, когда я кончил второй из моих первых курсов. Я тогда носился с Булгаковым – только что произошло явление народу «Мастера и Маргариты». Дядя Миша охотно подхватил мои восторги:
– Маяковский ушел с «Дней Турбиных» и сказал потом о Булгакове, что не видел булгаковского хвоста и поэтому не знает, крокодил он или ящерица, – все это вместо простого признания, что еще не успел прочесть «М. и М.».
Но не думай, что я на него за это сержусь, он все-таки славный был человек, неравнодушный, хотя бы к косности. Ну и представь, имел ты мечты, замыслы – а занимаешься эпатированием провинциальных философов, – вот чего я боюсь до смерти, любой такой роли – от Мефистофеля до Дон Кихота или Гамлета, – только делами можно спастись от пошлости, а слова без дел почти всегда пошлость!
– Нда… Маяковский – конечно… – почтительно мычу я, соображая, как мне ответить.
– Но все же не Пушкин.
– Нда… Пушкин – конечно…
– Маяковский говорил: попробуйте прочесть про пушкинский разочарованный лорнет донецким шахтерам. – Кольцо, таким образом, замкнулось.
Вот к этому-то дяде Мише я и обратился. Я действовал наверняка: гад, мол, этот Наполеон. Как! Один из величайших в истории… замечательная память, удивительная работоспособность, Аркольский мост… Пушкин о нем… Лермонтов о нем… «отец седых дружин, любимый сын молвы»… Сам Гегель… Да, расстрелял арнаутов, но это был единственный выход. Да, уничтожил завоевания революции, но спас от бездны анархии. «А войны?» – «Прогрессивные».
И т. д., и т. п.
Я тщательно накручиваю на ус. Оказывается, мой мальчик для порки успел нахватать порядочно рекомендаций и от людей довольно почтенных. Правда, о многих из них я до этого не слыхал. Но, может, каждый из них тоже пропагандировал в Наполеоне кого-то своего?
Наконец, мне пришлось признать: да, это действительно великий человек. Нну… разумеется… до некоторой степени… однако есть и серьезные возражения. Герцен, например, писал, что все созданное бонапартизмом развеялось как обман и мечта; убивать людей, чтобы занять умы в стране, заменить идеи общественного прогресса каким-то бредом кровавой славы и бесконечной любовью к ордену Почетного легиона. Оказалось, что многие, тоже весьма солидные, люди считали его дипломатические дарования просто выдающейся бессовестностью. Если, конечно, не держать двух различных языков для называния поступков простых людей и исторических деятелей. И пошло, и поехало.
Шел по египетским пескам наравне с солдатами – но кто их вначале туда завел? И бросил. Заботился о солдатах? – как свинарь о своих свиньях. Создал великую армию – но для кого? Знаешь ли, что сказал Робеспьер: армия – опасная для свободы предосторожность, военный дух изолирует солдат от граждан, ставя качества солдата выше качеств гражданина. Это именно о нем, именно он разделял то, что нельзя разделять, – солдата и гражданина, он все сводил к честолюбию. Ленинизм учит, что отношение пролетариата к армии зависит от того, орудием каких классов и какой политики служит данная армия.
Дядя Миша, как боеприпасы, выдергивал с полок толстые книги. Призраки Великой революции поднялись за его спиной. Я ушел домой с синим томом «Избранных произведений Наполеона № 1». Это было, возможно, самое основательное изучение в моей жизни. Вероятно, я еще надеялся, что мой теоретический рост поможет служебному. Я внимательнейшим образом вчитывался в такие захватывающие вещи: «Правый фланг Лапуапа наблюдал за фортом и горою Фарон, центр господствовал над шоссе из Ла-Валетты, а левый фланг наблюдал за высотами мыса Брен. Карто своим левым флангом обложил форт Поме, центром – редуты Руж и Блан, правым флангом – форт Мальбоске. Его резерв занял Олиуль, один отряд находился в Сифуре. Карто восстановил также батареи Сен-Назер и Бандоль».
Проявленное мною терпение могло сравниться разве что с выдержкой самого Наполеона в Египетском походе. Особенно внимательно вчитывался я в его защиты от попреков и в сами, стало быть, попреки, заодно осваивая отчеканивающий слог его прокламаций. Я пересказывал все это у Валерки, консультировался с дядей Мишей, снова и снова пересказывал – и даже Генка меня слушал, хотя и как бы рассеянно. Но я торжествовал больше за успех Мысли, чем за себя.
И каждый усваивал свое.
Все это постепенно повлияло и на ход боевых операций, особенно на разговорное их оформление. Многократно репетируя, мы достигли значительной бойкости.
– Солдаты! Дни, потерянные для славы, потеряны и для вашего счастья. Итак, двинемся вперед – еще остались враги, которых надо победить, лавры, которые надо пожать, оскорбления, за которые надо отомстить!
– Как, снова жертвы! – вмешиваюсь я. Я стараюсь выражаться мрачно, сжато и энергично. Валерка властен и высокомерен.
– Если бы эта история обошлась мне в восемьдесят тысяч человек, – пренебрежительно бросает он через плечо, – я бы не начал ее. Но мне потребуется не больше двенадцати тысяч, а это пустяки, – и страшно, и восхитительно.
– Я был в войсках – люди утомлены…
– Мои солдаты предпочитают славу теплой постели!
– Республиканцы требуют мира – столько славы несовместимо со свободой!
– А… эти болтуны… – Валерка с торжествующим презрением усмехается мне в лицо.