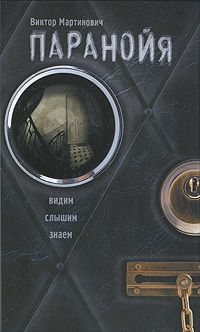Это потому, что мне стало настолько страшно, что я отвел, отвел, Лиза, взгляд от этого одержимого, а он реально выглядел как одержимый.
«Твоя проблема, Невинский, — продолжил он, — заключается в том, что ты, сука, выдумал больно хитрую ситуацию. Ты, блядь, подозреваешь в том, что сам же и натворил, всех вокруг: МГБ, государство, министра Муравьева. Что, думаешь, я показания твои не читал? Ты спрятал свой ум, свою память о том, как ты зарезал, блядь, человека — невинную девушку! Хрупкую, блядь, беззащитную девушку! Ты спрятал это за подозрениями в адрес людей, находящихся на службе. Так вот, блядь, в глаза смотри, сука! Так вот, моя задача заключается в том, чтобы помочь тебе вспомнить то, как ты совершал это убийство. Шаг за шагом. Движение за движением. Чтобы твои руки снова услышали хруст разрываемой ножом плоти. Чтобы ты воспроизвел, как она кричала. Чтобы ты вспомнил, как ее корчило и как она отходила в луже крови. Ты вспомнишь это, в мельчайших деталях, и расскажешь нам. И вот это — будет чистосердечным признанием и раскаянием в содеянном. Настоящим признанием и настоящим раскаянием».
Такова была его речь. После этого он стал выяснять подробности нашей последней встречи и особенно напирал на то, что, выйдя с Серафимовича, я поехал не на вокзал, а домой, домой и там провел некоторое время, и я все не мог понять, почему это так ему надо, а потом вспомнил: нож, нож — я должен был заехать за папиным ножом, чтобы поехать к тебе и убить тебя этим ножом. И, если честно, мне очень хотелось выставить ему средний палец и сказать, как Нео в фильме «Матрица»: «You can't scare me with this Gestapo crap. I know my rights. I want my phone call», — но я был уверен — тут уж он хорошо постарался, — что его моментальным ответом станет то, что у меня просто исчезнет рот, а потому я слушал его, и кивал, и, чем дальше, тем…
* * *
Я расскажу тебе о том, как живу здесь, сестрица. Мне выделили комнату, располагающуюся, как я полагаю, в крипте центрального храма. Причина, по которой меня держат взаперти, нам с тобой, увы, хорошо известна, как известно и то, что, с учетом содеянного, самое место мне — среди диких псов или в выгребной яме, но милость Божия поистине не знает границ.
Когда мне становится особенно тяжело, я представляю себе огромный, светлый, сотканный из воздуха готический собор, раскинувший свои крылья там, надо мной, над потолком, над этой слепящей глаза, не гаснущей ни днем ни ночью белой блядской лампой, которой, блядь, здесь не должно ни хуя быть, в крипте — какой–то пережиток, да. Нет, нет, не сквернословить, спокойно, важны Вера и Взвешенность, не впадать, не впадать сейчас, иначе опять со всех стен полезет… Думать о спокойной тишине храма там, наверху, храма, расположенного между мной и небом, храма, в подножии которого меня для моего же блага заперла братия.
Там, за дверями, куда меня выводили всего один раз — на купание (от этой церемонии я помню лишь белую стену, сложенную как будто бы из огромных полированных плиток, да ледяную струю из резинового шланга), так вот, там, за дверями — коридор, то и дело слышны шаги странников, спускающихся поклониться святым мощам. Иные из них одеты в сапоги, кованные железом.
Ты не подумай, пожалуйста, что я все это придумал: в этом небесном храме между мной и облаками бывают службы, и я сначала удивлялся, что ничего не слышу, пока однажды, в самый сложный для меня момент, о котором — позже, позже, не услышал явственно далекие колокола, зовущие к вечере. Это далекий перезвон воспроизводил, кажется, где–то мной уже слышанную фугу (Бах?), и я радовался ей как подтверждению храма и опровержению невесть откуда взявшегося слова «тюрьма», от которого странно чесалось внутри головы. Несколько раз я слышал службы, идущие наверху, — осторожные звуки органа и хорал, выводящий мелодию группы Enigma, и хотел подпевать, но я не мог по–латыни.
Наша работа с преподобным Виктором Ивановичем идет уже около трех недель — я сужу об этом по тому, что моя щетина, еще только коловшаяся, когда мы начинали готовиться к исповеди и причастию, теперь превратилась в длинные космы, которые я сейчас тереблю, расхаживая по келье. Щепотью этих волос уже возможно обернуть палец, мне интересно, что ты скажешь, когда снова прилетишь посмотреть на меня, сестрица. В прошлый раз ты упорхнула слишком быстро, но из–за дверей и правда так кричали, когда я принялся разговаривать с тобой в голос (я не должен мешать молчаливому поклонению тех, в кованых сапогах).
Усилия, которые преподобный викарий направил на работу со мной, приносят первые результаты. Я многое вспомнил из того, что прежде отрицал мой бедный, смущенный мозг. Преподобный начал с того, что потрудился серией логических аргументов доказать мне, что ты никогда, конечно, не могла любить меня, так как мой соперник, имя которого теперь уже не имеет никакого значения (и мы договорились забыть о нем, называя при людях просто «он», и на Суде тоже — «он», это важно, это очень важно, но не помню почему), так вот, этот соперник был лучше меня.
Он был достоин твоей любви, так как в отличие от меня, простолюдина, являлся мужем ученым, духовным, знавшим книги и умевшим толковать их на разных языках. Ты полюбила его за любовь к искусствам, за богатые одежды, за хорошие манеры, которых у меня не могло, конечно же, быть. И здесь ты видишь, насколько издалека начал преподобный разбор моего поступка, ведь мог сразу перейти к событиям той ночи. Но это и отличает проводника милости Божией от обычного душегуба, что он хочет не наказать меня, но помочь мне — мне самому — осознать и раскаяться, и исповедаться, и очиститься. Святой Августин в беседе с Эводием растолковал, что свобода воли дана человеку Всевышним. Всевышний даровал тебе ее, сестра, чтобы ты сама выбирала, кого любить, а кого — нет. Я, добиваясь твоей любви, пошел против дарованной Им свободной воли, а стало быть — пошел против Бога. Когда же не преуспел — совершил смертный грех убийства, использовав свою свободу воли как свободу творить против Бога. И вот вмешалась братия, которая, без сомнений, поможет мне в полной мере раскаяться.
Я помню, помню, конечно, сестра, как, цепляясь за свою теперь уже очевидно мнимую невиновность, убеждал себя в том, что ты любила меня и я любил тебя, а стало быть, не мог поднять против тебя руку. Преподобный Виктор Иванович помог мне разобраться, он, как любой священник, находящийся в договоре со Всевышним и черпающий свою мудрость с Небес, знал о нас решительно все и даже — ты не поверишь! — дословно пересказывал содержание наших бесед, помогая мне верно их интерпретировать. Был один момент, который теперь мне уже кажется плодом моей хромой фантазии. Я тогда уперся в своем понимании произошедшего и убеждал преподобного, что он не может знать о нас ничего, что он — чужой человек (Виктор Иванович–то чужой!), и тогда он сотворил чудо — он сделал какой–то пасс руками, и в исповедальной зазвучали слова нашего с тобой разговора, последнего разговора, — приглушенные, но вместе с тем разборчивые, и я слышал, как кричу на тебя, и сомнений, конечно, не могло оставаться в том, что Всевышний явил мне чудо, чтобы ускорить раскаяние. Мой бедный рассудок еще пытался сопротивляться, еще брыкался самооправданиями, как жеребя, едва покинувшее лоно кобылы, еще подозревал каких–то людей, которые совершили это убийство за меня.
Здесь я, сестра, должен еще раз вознести хвалу преподобному за то, как много усилий он положил, чтобы привести меня к истинной исповеди. Сломала все мои бессмысленные препирательства церемония, которой я боялся превыше всего и которая как раз и предопределила отказ от моей бессмысленной, смешной борьбы. Называлась она «следственный эксперимент» и, по своей сути, воспроизводила шаг за шагом все действия, совершенные мной в ту роковую для нашей с тобой любви ночь. Я, помню, отказывался и бесновался, мне, бедному, казалось, что таким образом я убью тебя еще раз, пережив все те моменты, через которые прошел или не проходил вовсе (тогда я думал, глупец, что все это «подстроено», сестра, что тебя убили они!), а Виктор Иванович не мог меня к следэксперименту вынудить силой — устав братии не позволяет вести к этому причастию без моего смиренного согласия, и он говорил со мной сутки напролет, он приходил ко мне в келью, и мы с ним вели беседы об астрономии, об устройстве светил, об Августине и о Том, кто так мудро все устроил. И тогда, как я сейчас припоминаю, — больше из страха, что мое сознание помутится еще больше от его рассказов (а были среди тех бесед и весьма откровенные разговоры о том, как умирает, например, человек с ножевыми ранами в брюшную полость), я согласился на это причастие. Братия привезла меня на квартиру на улице Маркса, ту самую, где ты рассталась с жизнью деяниями моих греховных рук, и к тому моменту я уже знал, что и как делать. Меня облачили в те одежды, в коих я пребывал в ночь преступления, вручили мне в руки отцовский нож и сотворили своими молитвами безмолвный голем девицы, чрезвычайно похожей на тебя. И я знал, уже знал, как надо, как было.