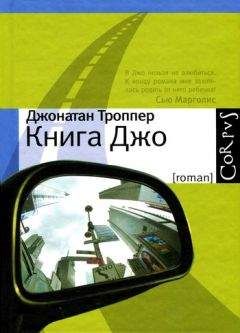— Годится, — соглашаюсь я. Хорошо иногда поговорить с родным братом. Мы сворачиваем на Лансинг, короткую кривую улочку, которая, точно ручка кувшина, снова упрется в нашу Слепую Кишку.
Пол вдруг останавливается, прокашливается:
— Я хочу тебе еще кое-что сказать.
— Да?
— Тогда вечером… Я такого наговорил…
— Мы оба наговорили.
— Да. Штука в том, что я был очень зол на тебя. Длилось это очень долго, и пользы никому из нас не принесло. Я потратил на обиды много времени, и время это уже не вернешь. Теперь я вижу, как ты злишься на Джен из-за того, что случилось с вашим браком… Знаешь, в какой-то момент уже совершенно не важно, кто прав, а кто виноват. Злость и обида превращаются в дурную привычку, вроде курения. Ты травишь себя, даже не задумываясь о том, что делаешь.
— Угу. Спасибо.
Пол хлопает меня по спине:
— Как говорится, не бери с меня пример, а слушай, что говорю.
— Спасибо, Пол.
Он обгоняет меня на шаг.
— Не за что, братик. Не за что.
Восстанавливать отношения — дело замысловатое, но у нас, людей, не умеющих проявлять эмоции, есть свои преимущества. Недаром говорят, что молчание — золото. Мы просто идем, и на душе уже куда легче, а впереди — телеграфным кодом — цокает каблучками мама. Она ведет нас домой.
9:10
Расцеловав Венди на прощанье, мама начинает плакать. Она всегда так сильно переигрывает, что сейчас, когда ее обуревают нормальные материнские эмоции, им уже не очень веришь. Но так или иначе мы — ее дети, и мы опять уезжаем… Я целую обоих племянников и затягиваю ремешки на их автомобильных сиденьях.
— Летите весело, парни. И ведите себя хорошо.
— Я йиву в Кайифойнии, — торжественно сообщает мне Коул.
— Да, ты прав.
— До свидания, дядя Джад, — говорит Райан.
Когда я увижу их в следующий раз, Коул будет говорить чисто, длинными предложениями, а Райан превратится в угрюмого бейсбольного фаната с первыми колечками волосков на тощих ногах. Скорее всего, он больше не позволит мне целовать его в щеку. От этой мысли мне становится грустно, и я целую его еще раз.
— Дырка в жопе, — шепчет он, и мы смеемся, как заговорщики. Коул хохочет вместе с нами — просто потому, что ему всего два года и он веселится по любому поводу.
Венди обнимает меня и говорит:
— Знаешь, пустись-ка ты в загул, пока есть время. Потрахай баб направо и налево, дави их, не глядя, как банки из-под пива. Побудь женоненавистником, тебе пойдет на пользу.
— Счастливого пути.
— Ты — рохля, Джад. Но я тебя люблю. Я обязательно приеду, когда вы родите. — Она чмокает меня в щеку и переходит к Филиппу, потом к Полу с Элис, а потом берет автомобильное кресло со спящей Сереной и залезает в фургон через заднюю дверь. Фургон движется по Слепой Кишке очень медленно, и я вижу, как с порога своего дома прощально салютует Хорри. Фургон, накренившись, останавливается, и Хорри сбегает по лестнице. Окна фургона не открываются. Хорри кладет руку на тонированное стекло, пристально глядит внутрь. Я не вижу, что внутри, но представляю, как Венди тоже прижимает ладонь к стеклу, ее пальцы — против его пальцев, и они долго смотрят друг другу в глаза. А потом она отнимает руку, откидывается в кресле и велит водителю жать на газ, потому что так и на самолет можно опоздать.
9:25
В верхнем ящике папиного древнего комода из красного дерева — куча разного добра. Просроченный паспорт; кольцо с гравировкой — к окончанию средней школы; швейцарский складной нож с монограммой; старый бумажник; непарные запонки; старые наручные часы фирмы «Таг Хойер» — отец всю жизнь собирался их починить; наши замусоленные табели с отметками, стянутые резинками; множество сувенирных цепочек для ключей; дорогущая перьевая ручка; золотая газовая зажигалка — тоже с монограммой; целая россыпь болтов, гаек и пластмассовых зажимов для проводов; пассатижи и, в серебряной рамке, черно-белая фотография — мамин портрет во весь рост. Обнаженная, юная, прекрасная — до того как дети и грудные имплантанты изменили геометрию ее тела. Она тут очень тоненькая, и в ее позе ощущается чуть заметное стеснение, словно она пока не понимает, как хороша. По ее улыбке ясно, что снимал отец. Рамка ничуть не потускнела от времени — видно, отец об этом портрете заботился, чистил серебро.
Швейцарский нож оставлю для Пола, зажигалку отдадим Филиппу. Я снимаю с запястья «Ролекс», кладу в карман и беру в руки папины часы. Когда я был маленьким, я хватал папу за запястье и крутил внешний ободок циферблата — он так замечательно пощелкивал. Пробую покрутить сейчас. Щелчки звучат совсем иначе: не хватает папиной руки, придававшей часам такую увесистость и надежность. Так, оказывается, на задней крышке часов есть гравировка. Ты меня нашел. Любовь моей матери, неприкрытая, всепоглощающая, написанная на стали. Трудно вообразить, что мама способна потеряться и ее надо искать, но еще труднее — в сущности, невозможно — представить, какими были твои родители до того, как они стали твоими родителями. А ведь у них, похоже, были совершенно особые отношения. Мне это раньше не приходило в голову. Я надеваю часы. Сначала сталь холодит запястье, но быстро, словно живое существо, нагревается от моего тепла. Я задвигаю ящик и, присев на кровать с папиной стороны, с минуту рассматриваю часы. Запястье у меня сильно тоньше папиного, и, чтобы их носить, из цепочки придется удалить несколько звеньев. Ну и починить, естественно, поскольку стрелки замерли на белом циферблате много лет назад. Что ж, займусь на досуге. Досуга у меня сейчас — хоть отбавляй.
9:40
Мама, Филипп, Пол, Элис и Хорри за столом, завтракают, благо подношения, принесенные соседями на шиву, еще не иссякли. Филипп рассказывает какую-то историю, повергая слушателей то в ужас, то в дикое веселье. У него припасено великое множество баек, от которых люди смеются и плачут, и некоторые из этих баек даже похожи на правду. Я наблюдаю за ними из прихожей, а потом — так и не замеченный — тихонько выхожу на улицу. По непонятным мне самому причинам я не готов принять на себя ушат прощальных объятий и вполне искренних добрых пожеланий. Я просто не выдержу — ни странностей Элис, ни неуклюжей прямолинейности Пола, ни бурных эмоций Филиппа, ни маминых слез. Не выдержу и тоже заплачу, а наплакался я уже предостаточно.
— Хочешь слинять по-тихому?
Повернувшись, я вижу на крыльце Линду.
— Нет. Я только…
— Ничего страшного, поезжай, — говорит она мягко. — Семь дней — уже немало. Ну, давай обниму. — Она обхватывает меня обеими руками и целует в обе щеки.
— Я счастлив за вас с мамой.
— Правда? Для тебя это не чересчур? — Она слегка краснеет, и внезапно я вижу ее такой, какой, наверно, видит ее мама: более молодой и… беззащитной, что ли?
— Чересчур, но — по-хорошему.
— Хорошо сказано, — говорит она, обнимая меня снова. — Спасибо.
— Ты сюда переедешь?
— Посмотрим. — По ее лицу скользит улыбка. — Торопиться не стоит. Ваша мама давно ни с кем не встречалась, не строила отношений. Для нее это как будто впервые.
— Такое — вообще впервые.
— А, ну да… В общем, ей надо привыкнуть.
Линда смотрит на меня с нежным прищуром:
— Выглядишь ты лучше, чем неделю назад.
— Тогда я был мужем, которому наставили рога. Теперь я — без пяти минут отец.
Она усмехается:
— Не пропадай надолго, Джад.
— Не пропаду.
Утренние лучи освещают красные листья наших бентамидий, отчего весь двор обретает мягкий густоянтарный оттенок. На другой стороне улицы два садовника включают шумные пылесосы, разметающие листву, и разноцветный ворох, взвившись с газона, медленно оседает на тротуар. В большом окне дома напротив греется на солнышке кошка. Мимо бежит женщина в спортивном костюме, толкая перед собой прогулочную коляску с ребенком. Каким безмятежным иногда кажется мир.
9:55Я коротаю время в кафе на бензоколонке у большой дорожной развязки и мысленно прокладываю разные пути. До катка я доберусь за десять минут. До Кингстона — за полтора часа. Если верить навигатору, до штата Мэн — семь часов и семь минут. У меня в машине навигатора нет, а в «порше», на котором я сейчас еду, есть. Ключи от своей машины я оставил Филиппу, вместе с запиской. Потому что утром что-то подтолкнуло меня пересчитать деньги в конверте, и оказалось, что он полегчал не на одну, а на две тысячи. Так что «порше» я взял в залог. Вернет деньги — отдам.
Пенни. Джен. Штат Мэн. Или еще куда-нибудь. Главное, что выбор есть.
У девушки, которая заправляет свою синюю «тойоту» — курчавые каштановые кудряшки, забранные вверх черной лентой. А еще у нее чудная кожа и броские черные очки, этакая сексуальная интеллектуалка. Журналистка. Или фотограф. Она замечает мой взгляд. Я улыбаюсь. Она улыбается в ответ. И я уже влюблен — мимолетно и безумно.