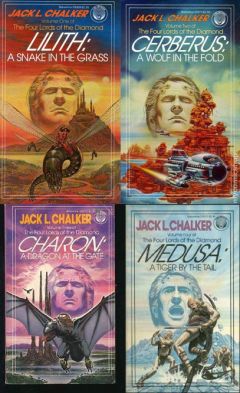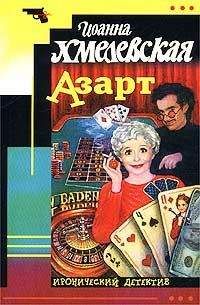— Р-р-разойдись!! Постреляю!
Мужики на миг остолбенели, затем, натыкаясь друг на друга, бросились прочь. Ведь убьет и отвечать не будет! Что взять с дурака?.. Артюша, в одиночку расправившись с бригадой, поднял брошенную кем-то лопату и начал метать землю в горящий омшаник. Он тушил самозабвенно, азартно, что-то пришептывал, приговаривал, и блики пламени сверкали в его расширенных светлых глазах. Все это происходило на виду у притихших за пряслом мужиков, и они, вдруг онемев, завороженно смотрели на метавшегося у огня Артюшу.
— А ведь потушит! — крикнул Вежин. — Уберите его оттуда!
Братья Забелины подкрались сзади и попытались отобрать лопату, но Артюша вывернулся и схватил ружье, которое все время лежало на земле, под рукой. Близнецов как ветром сдуло. Артюша бросил еще несколько лопат земли и вдруг остановился. Он оглядел замерших у прясла мужиков, поднял свою одностволку и, нацелив в их сторону, попятился к столярке.
— Оборотни, — шептал он. — Оборотни…
Он толкнул задом дверь, скрылся за ней, потом резко захлопнул и припер толстой чуркой, на которой Заварзин тесал заготовки для ульев. Отдышавшись, залез под верстак и стал просеивать руками мусор. На улице уже синело от сумерек, и в столярке становилось темновато. Артюша перерыл все стружки, перетряс опилки и наконец отыскал еще одну пуговицу, которая попала сюда в то время, когда он готовился к встрече с медведем. Артюша зажал ее в тиски, обточил рашпилем и загнал в ствол, затем, переломив ружье, достал из кармана патрон и попытался вставить его в патронник. Патрон не входил даже наполовину, во что-то упирался. Тогда он вытряхнул пуговицу и глянул в ствол на свет. Патронник оказался намертво забит стальным шестигранным прутком…
По дороге в Киров он открыл для себя странную зависимость вещей в мире и теперь грустно посмеивался над своим открытием. Получалось так, что все важные поступки, все замечательные решения приходилось вершить как бы за свой счет.
Чтобы наконец стать независимым от отца и расширить эту злополучную квартиру, нынешним летом ему пришлось вступить в бригаду шабашников, которая ежегодно собиралась в университете и под видом стройотряда ездила на заработки. Вначале натерпелся всякого дома. Ирма о шабашке и слышать не хотела, не понимала, считая это за глупость и какое-то ребячество. Зачем все это нужно, когда денег можно взять или, на худой конец, занять у отца: и он даст, поскольку все понимает и деньги есть. Не для роскоши — от нужды! Сергей в ответ, как всегда, говорил жене что-то невразумительное и потом долго слушал упреки: что в нем засел и сидит комплекс, от которого давно бы надо избавиться, что у него, современного человека, мозги, как у замшелого кержака (и чему же тогда он может научить студентов?), что жизнь надо воспринимать такой, какая она есть, ибо какой ей быть, диктует время, и что он, Сергей, играет роль эдакого ученого — бессребреника, несчастного рядового кандидата при блестящей перспективе. А он слушал и с мужицким упрямством думал о своем. Думал, что в тридцать-то три года уже нехорошо сидеть на отцовской шее, уже стыдно. Ведь не убогий же — руки-ноги есть — и не блаженный, чтобы родители до смерти кормили. В деревне если и не засмеяли бы, то уж никак бы не считали за серьезного мужика. Так себе, пришей кобыле хвост.
И, увлеченный этими думами, он выложил их Ирме; ее же словно ошпарило.
— Ах, что обо мне подумают!.. Ты пойми, в деревне сейчас остались одни кретины. Идет естественный отбор, все мыслящие люди тянутся в культурные центры. Город выпил интеллект из деревни, высосал, как вампир. А тебе важно, что подумают эти бескровные существа?
— И ты всегда так думала? — спросил Сергей.
— При чем здесь я? Сейчас все так думают и все это понимают. Только вслух не говорят… Ты посмотри на свою эту Стремянку. Сколько там нормальных? Они даже не умеют распорядиться своими деньгами, что всегда умел крестьянин. Это национальное бедствие, когда люди не знают, как управиться с материальными ценностями, не говоря уж о культурных.
Сергей взорвался и, как всегда в таких случаях, понес не то, что думал, говорил не то, что хотел: мелочи какие-то, пустяки.
— А мне бардак этот надоел! Да, надоел! — закричал он, пиная брошенные на полу вещи. — Как ни придешь — грязюка! Бедлам какой-то!.. В Стремянке хоть живут чисто, в избу зайдешь — посмотреть любо-дорого. А у нас? Другой раз и человека-то пригласить стыдно! Ко мне студенты приходят, понимаешь ты — нет? Стыдно!
— Ну вот, — отмахнулась Ирма. — Все свалил на быт. Я тебе про Фому, ты про Ерему…
Вместо того чтобы поехать к отцу, Сергей отправился на шабашку, зарабатывать себе на независимость.
Ехать в российскую Стремянку Сергей решил еще в августе, когда ездил в чермет разыскивать Иону. Сначала это пришло как долг перед отцом — надо же когда-то возвращать долги? — но однажды неожиданно подумал, вернее, попытался ответить на свой вопрос: почему отца тянет туда? Почему всегда тянуло мать, которая тоже собиралась съездить и не успела — умерла. Они ведь и родились-то в Сибири, вятской Стремянки в глаза не видывали, казалось, и связь всякая утеряна. Родня повымирала, а что осталось — так, седьмая вода на киселе, даже писем не писали. Почему тянуло многих из Сибири? Помнится, в детстве только и слышно было — эх, поехать бы в Россию, в Вятку. Хорошо-то как там, господи! И речка Пижма там светлая, и на полянах ромашки растут, а в ельниках — кукушкины слезки… В детском сознании от всех этих разговоров возникал образ России, похожий на сказочную страну, какую-то землю обетованную. Казалось, приедешь туда, и исчезнет реальность, и жизнь начнется совершенно другая, светлая, как речка с цветочным названием. Но со временем образ этот растворился, даже забылся на долгое время. И вот возник, приковал внимание настолько, что детством повеяло, сказкой.
Но почему же его-то, Сергея, не тянет туда? Если память о своей прародине, о земле, где схоронены предки, передается в генах, и тоска по ней передается, и жажда возвращения (откуда же иначе бы взялась отцова тяга?), то почему же ему-то не передалась? Сергей прислушивался к себе, представлял речку Пижму и ничего не ощущал. Где уж там думать о российской Стремянке, когда в сибирскую не тянет, туда, где родился, где пуп резали. А ведь случалось, тосковал по родным местам, особенно в студенчестве. Но как-то незаметно прошло время, и перестало тянуть. Хуже того, после отцовских писем и просьб заглянуть в гости возникало подспудное ощущение неприятной обязанности, такое, как в детстве, когда рано утром будили на покос, и каким бы ни был сладким сон, все равно приходилось вставать. Но можно и помедлить минуту-другую, и он медлил…
В сентябре, пока Сергей был в колхозе, Ирма должна была вернуться, но не вернулась из Новосибирска. Написала короткое письмо с просьбой, чтобы он подал документы на размен квартиры. Вначале он решил, что Ирма ошиблась, написав «размен» вместо «обмена», однако вдумался в текст и понял, что написано тут не о квартире — о всех их отношениях. Просто так уж устроено, что квартира разменивается в самую последнюю очередь, когда менять больше нечего.
«Неужто ничего не осталось? — думал он, прислушиваясь к себе и осматривая стены. — Нет! Осталось! Вика. Вика, доченька моя…»
Не умывшись, не сняв пропотевшей на колхозных токах одежды, он пошел в гараж, посадил Джима в машину и вырулил на улицу. Проезжая мимо своего дома, увидел свет в окне — забыл выключить, но останавливаться уже не хотел…
В этот, последний приезд в профессорский дом он лишь вечером, как-то случайно обратил внимание на обстановку — все те же полотна на стенах, бронза, старинная мебель, — и то увидел ее словно краем глаза, мимоходом. Вещи промелькнули, будто смутное воспоминание, будто лицо старого знакомого в толпе: ага, вы еще живы… А сама атмосфера в доме вновь чем-то напомнила смотрины. Опять было много народа, какие-то разговоры, беседы — о чем угодно, только не о том, что наверняка всех беспокоило. Здесь знали об их разрыве, похоже, много говорили об этом, пока не было Сергея, и вынесли решение, которое он получил в письме. Видно, поэтому и не замечали зятя, поскольку на «смотринах» он еще не был таковым, а сейчас уже не был. Вика целый день не слезала с рук, шептала на ухо стишки, рассказывала, как они с мамой катались на лодке, ходили в зоопарк, смеялась весело, но черные ее глазки оставались настороженными и даже печальными.
— Давай уедем к дедушке в деревню, — заговорщицки шептал Сергей. — Поселимся там в своих комнатах и будем жить. А летом поедем на пасеку.
Эта мысль у него появилась еще по дороге в Новосибирск. За дорогу много приходило шальных мыслей. Взять Вику, будто бы для того, чтобы погулять на улице, посадить в машину и увезти. И пусть Ирма потом побегает. Или напиться и разогнать всех в доме. Если не разогнать, то спросить наконец, кто есть кто в этом обществе и с какой стати, какое имеет право решать их судьбу. Потом все это показалось глупостью, кроме одного — увезти Вику. Но Вика не соглашалась ехать вдвоем, просила взять маму с собой, дедушку с бабушкой, какую-то тетю Ларису и дядю Диму. И он бы уговорил, потому что Вика постепенно сокращала компанию до одной мамы, однако им мешали. В зале, где они сидели и шептались, словно предчувствуя заговор, время от времени кто-нибудь появлялся. Чаще всего совсем немощный уже дед в безрукавке, который вынимал из шкафа сапожную лапу, смотрел на нее слезящимися глазами, прятал назад, и выпивший Дима — двоюродный племянник тестя. Наконец пришла Ирма, взяла Вику за руку и увела ужинать.