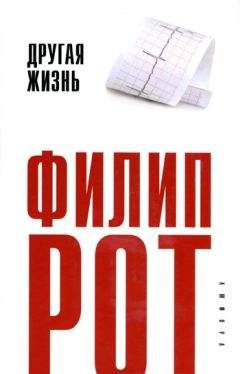— Уничтожение личности Цукермана завершено, — проговорил бородатый. — Чистая, благородная смерть, фарс вместо некролога и никакой обрядовости — все исключительно по гражданскому церемониалу, не имеющему никакого отношения к еврейским традициям захоронения. Никто не заплакал над могилой, ни один не почувствовал раскаяния или угрызений совести, когда опускали гроб, — нет, наоборот, никому даже не было позволено сопровождать тело покойного. Сожгите его. Никакого тела у него нет. Любитель гротеска с буйным нравом — но без тела. Все осталось в прошлом, все стерильно и глупо. Смерть от рака ужасна. Я ожидал, что его ждет именно эта участь. А вы не ждали этого? Где болезненность и суета вокруг? Где замешательство и стыд? Стыд — это то, что всегда определяло творчество этого парня. Перед вами писатель, который всегда взламывал все табу, трепал языком направо и налево безо всякого стеснения, нарочно выходя за все рамки приличий, — а теперь его хоронят с такой помпой, будто он большая шишка вроде Нила Саймона[107], «саймонизируют» нашего грязного, подлого, болезненно страдающего Цука! Нечистая совесть Гегеля под личиной сентиментальности и любви! Этот вечно неудовлетворенный, подозрительный, постоянно рвущийся в драку романист, чье эго доходит до крайностей, вдруг преображается и предстает перед всеми в приятном обличье смерти, и чувствительная полиция, обученная грамоте полиция устраивает ему пышные похороны со всей этой дремучей чушью и хреновым мифотворчеством! Говна пирога! Единственным способом устроить ему достойные похороны было бы пригласить тех, кто когда-либо был знаком с этим человеком, и подождать, пока не разразится скандал: пусть кто-нибудь явится как гром среди ясного неба и скажет наконец правду. А все остальное — манерничанье за обеденным столом. Я никак не могу пережить это. Ему ведь даже не суждено гнить в земле — хотя этот парень создан для этого. Эта коварная, отрицающая духовное возрождение литературная прогулка, вносящая элемент раздражительности в еврейскую кровь, приносит людям чувство неловкости и вызывает злость, когда они с помощью зеркала заглядывают ему в задний проход, что вызывает презрение у многих умных людей, недовольных всевозможными лобби, и тогда они обеляют его: очищают от грязи, избавляют от вшей — и внезапно он становится Абе Линкольном[108] и Хаимом Вейцманом[109] в одном лице!
Неужели он хотел именно этого: чрезмерной кошерности, отсутствия зловония? Лучше бы он умер от рака. Все бы получили удовольствие. Экстравагантность катастрофы, смерть тела весом в семьдесят восемь фунтов, когда вытащены все клапаны. Остался сгусток боли и вой, мечта об игле и в то же время просьба к медсестре сжалиться над ним и из доброты сердечной потрогать его детородный орган, — пусть это будет последним ударом по невинной жертве. Однако вместо этого его восставший и капающий член внезапно повисает как тряпка. В этом все его достоинство. Большой человек. Все эти великие писатели — фальшивка. Они хотят отобразить все, что видят. Они безумно агрессивны: они срут на каждой странице, стреляют на каждой странице, показывают, как они пердят на каждой странице, и за это они ждут медалей. Сплошное бесстыдство. Тебе должно это нравиться.
Что хочет мне сказать этот человек? Ты умный читатель, и я согласен с тобой? Я тоже должен считать, что ему лучше было бы умереть от рака? Генри абсолютно ничего не сказал в ответ.
— Вы — его брат! — прошептал бородатый, прикрывая рот рукой.
— Нет, вы ошиблись.
— Вы точно его брат, вы — Генри!
— Иди на хуй! — бросил ему Генри, пригрозив кулаком, и быстро соскочил с тротуара на мостовую, где его едва не сбил грузовик.
Чуть позже он уже стоял перед входом в дом из бурого песчаника, где раньше жил Натан, пытаясь объяснить пожилой итальянке с непреклонным взглядом и огромной шишкой на темени, которая походила на злокачественную опухоль, что он оставил в Джерси ключи от квартиры своего брата. Именно она подошла к двери, когда он позвонил в колокольчик для вызова привратницы.
— Сегодня у меня был чертовски трудный день, — сказал он ей. — Я чуть голову не потерял. Вполне простительно, что я забыл об этом.
Ему не стоило произносить «голова», видя этот чудовищный нарост на ее темени. Но, может быть, именно поэтому он и сказал это слово. Он все еще не вполне владел собой. Его обуревали совсем иные чувства.
— Я не могу никого впустить сюда, — сообщила она ему.
— Разве я не похож на своего брата?
— Еще как похож! Я даже подумала, что вы близнецы. Я чуть в обморок не упала, когда увидела вас. Я подумала, что вы мистер Цукерман.
— Я только что с похорон.
— Его предали земле, да?
— Его кремировали. — «Наверно, сейчас это и происходит, — подумал он. — От Натана не останется ничего, кроме пепла, который вполне может уместиться в коробочку из-под пекарской соды». — Будет гораздо проще, — объяснил он привратнице, — если мне не придется ехать домой и возвращаться обратно с ключами. — С бьющимся сердцем он сунул ей в руку две двадцатки, которые мял в кулаке еще до того, как вошел в здание.
Следуя за ней к лифту, он пытался придумать хоть какой-нибудь предлог для объяснения своего появления здесь, если кому-нибудь придет в голову заглянуть в квартиру Натана; но вместо этого он начал рассуждать о том, почему он раньше не нанес визита брату, — если бы он посетил Натана, ничего подобного тому, что произошло сегодня, никогда бы не случилось. Но истина заключалась в том, что со времени их ссоры Генри мало думал о своем брате, он даже удивлялся, что сегодня в нем поднялась волна негодования и все его отношение к брату сконцентрировалось только в этой точке. Он, конечно же, не был готов к тому, что Натан может умереть, поскольку сам был жив; там, в траурном зале, защищаясь от оскорблений велеречивого клоуна, он даже на секунду представил себя Натаном, — Натанов дух передался ему, так же как и Лоре, — за его бессердечность.
Может, он выслеживает меня и внезапно появится здесь?
Отперев два замка, Генри оказался в пустоте маленького коридора. У него мелькнула в голове мысль, что он, став взрослым человеком, продолжает, как ребенок, верить в чудеса: если кто-нибудь умирает, это какой-то фокус, что смерть — не совсем смерть, что покойники лежат в гробу и в то же время не совсем в гробу и что они непонятным образом могут внезапно выскочить из-за двери и закричать: «Обманули дурака на четыре кулака!» — или же, внезапно появившись на улице, идти за тобой по пятам. Пройдя на цыпочках в гостиную через широкий дверной проем, он остановился у края восточного ковра, будто пол в комнате был заминирован. Ставни были закрыты, длинные шторы задвинуты. Можно было подумать, что Натан уехал отдыхать, если бы он не был мертв. На следующей неделе будет тридцать лет с тех пор, как он в Хеллоуин впервые отправился гулять во сне. Еще одно воспоминание, годное для непроизнесенной вслух надгробной речи: в тот вечер Натан, крепко держа его за руку, вел его мимо соседских домов, чтобы ребенок мог всем продемонстрировать свой костюмчик пирата.
Мебель в комнате казалась внушительной, и обстановка производила сильное впечатление: это был дом выдающегося человека, добившегося такого успеха, о котором Генри и мечтать не мог, хотя сам он был феноменально успешен на своем поприще. Дело было не в деньгах, а в некоей иррациональной защите высших сил, будто Натан был Помазанник Божий и обладал дарованной ему вечной неуязвимостью. Иногда Генри чуть с ума не сходил, думая о том, как Натан достиг всего этого, хотя и понимал, как мелко и как ужасно, даже трагично, пусть на минуту вообразить, что он — ровня своему брату. Вот почему он предпочитал вообще не думать о нем.
Почему, спрашивал себя Генри, если ты хороший сын и хороший муж, то ты немедленно становишься персонажем из анекдота, что рассказывают в кругу интеллектуальной элиты? Что тут такого, если ты ведешь добропорядочную жизнь? Неужели обязанность и долг — дешевка, а приличия и почтительность — полное дерьмо, тогда как «безответственное преувеличение» создает «классику»? В той игре, в которую играют эти аристократы от литературы, правила иногда бывают истолкованы с точностью до наоборот.
Но он пришел сюда не для того, чтобы торчать в квартире брата, мрачно уставившись в пространство, и лелеять в душе самые злобные, мстительные чувства; он здесь не для того, чтобы его, гипнотизируя, обдувал хлад смерти, пока он будет стоять в ожидании, что Натан высочит из гроба и скажет ему, что все это шутка; нет, он здесь для того, чтобы совершить свое черное дело.
Внутри глубокой ниши, идущей вдоль коридора, что отделял заднюю часть квартиры — кабинет Натана и его спальню — от гостиной, кухни и просторной прихожей, были поставлены четыре шкафа для хранения документов, в которых Натан держал свои бумаги. Найти дневники не составило никакого труда, Генри сделал это за несколько секунд. Четыре стопки были разложены в хронологическом порядке на полках: двадцать общих тетрадей, сложенных в картонные папки, расхристанных, пухлых, с торчащими из-под обложек оторванными страницами, и перевязанных широкой красной резиновой тесемкой. Хотя мозговые клетки могли превратиться в пепел при помощи огня, у Натана остался банк памяти, о котором следовало побеспокоиться.