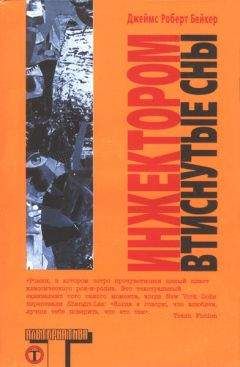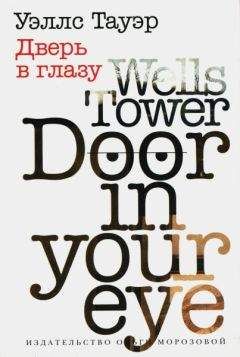Оставшись, наконец, в палате одна, она снимает трубку и набирает номер Бобби. Бобби — единственного, кто сможет ей помочь.
В квартире Бобби звонит телефон, стоящий на столе, заваленном использованными пластиковыми шприцами, моментальными снимками Шарлен и стихами на дюжину оригинальных блюзов, все до единого — о безответной любви.
Телефон продолжает звонить, когда мы видим Бобби, оцепенело сидящего на водительском сидении его собственного сверкающего черного «камарро» шестьдесят девятого года, на заброшенной грязной дороге неподалеку от нефтеперегонного завода в Карсоне. Из руки Бобби торчит игла, мухи ползают по его побелевшим губам и открытым глазам. На пассажирском сиденье — покрытая копотью ложка и голубой шарик с остатками коричневого героина.
А теперь, под печальную фортепианную мелодию, проходят смонтированные сцены последних пятнадцати лет. Мы видим, как времена года сменяют друг друга, а Шарлен отсиживается в своей спальне. Красит ногти в ясном свете весны, мнет готический роман в бумажной обложке под желтоватым осенним солнцем. Смотрит, как черные парочки ломятся на «Soul Train», а по ее зарешеченным окнам стучит дождь. Ее радио настроено на частоту KRUF, и жаркими летними ночами она мечется среди липнущих к телу шелковых простыней. (Возможно, ее агорафобия развилась как бессознательный защитный механизм? Если она не в состоянии даже покинуть свою комнату, в одиночку выйти из дома — значит, нет риска, что она попытается сбежать. А Деннис поддерживает идею, что она больна, оплачивает врачей, психиатров — жест сочувствия, которое вполне могло перейти в заботу за эти пустые годы одиночества.)
Ибо он больше не притрагивается к ней — никак: ни мягко, ни нежно. Ни сексуально. Да как он смог бы, зная, какими глазами она будет смотреть на него теперь, как будет читать его мысли о Черил. Она больше неинтересна ему в этом отношении — да и в любом другом тоже. Но и отпускать ее он не желает. Она знает, что случится, если она расскажет врачам и психиатрам слишком много. Даже если она и не говорит лишнего, он может, заподозрив, что это не так, внезапно отказаться от их услуг. Разумеется, его сочувствие — сплошное притворство. Ему не нужно, чтобы она поправилась. Агорафобия — это случайность. Зато ему больше не нужно запирать ее, когда он уходит из дома. Вся сигнализация теперь установлена у нее в мозгу.
А уходит он часто и надолго, сутками сидит в студии, составляет треки, которые потом, собранные воедино, создадут «Преждевременное погребение»; он скрупулезно шлифует каждый нюанс — ночами, месяцами, годами, больше десяти лет; броские мессершмиты «скоростняка» уступают в семидесятых годах место точному и роскошному, как мерседес, кокаиновому изгнанничеству.
В разреженном воздухе Анд, которым он дышит все эти годы, он время от времени, может, и говорит с Шарлен о возобновлении ее карьеры. Если, конечно, она когда-нибудь оправится настолько, что снова сможет выступать. Году этак в семьдесят седьмом, сидя за столом во время завтрака, он в который раз пространно излагает свои соображения по этому поводу, а она только кивает. Они изображают брак ради удобства, деловое сотрудничество. Но если Деннис — президент компании, то Шарлен — всего лишь вышедшая в тираж модель. Он не имеет ни малейшего намерения воскрешать ее карьеру. Этот «стингрэй» заперт в гараже навсегда.
А когда она снова начинает выходить, когда уже способна сама доехать до психиатра, она оказывается в величайшей опасности. Потому что под кокаином его страхи получают подтверждение, все до единого: его фигуральное убежище вскоре будет раскрыто; за его «мерседесом» следят; в телефонной трубке раздаются странные щелчки. Возможно, Шарлен возвращается из «триумфальной поездки» в салон красоты лишь для того, чтобы наткнуться на стену параноидных обвинений, которые завершаются побоями. За которыми следуют бесчисленные извинения, искупительные подарки и месяцы равнодушия. Только затем, чтобы последовал новый взрыв, когда слишком долго отсутствует, или когда улыбается садовнику, или просто потому, что на сегодня не хватило опиатов, которые сдерживают его порывы преследователя. Доходит до того, что она свободна от подозрений, лишь пока безвылазно сидит в своей обитой шелком клетке.
Но безопасности для нее нет даже там. Печальная фортепианная мелодия, которую мы слышим — ее; за ее спиной в зарешеченные окна вливаются лучи закатного солнца, обрамляя ее ореолом — и она начинает петь. Эта песня — пробирающая до глубины души мольба, духовное освобождение из ее тюрьмы. Освященная солнечными лучами, она отчаянно молится, уверенная, что кроме нее в доме никого нет.
Но на дорожке прямо под ее окном остывает разгоряченный «стингрэй». Наша портативная камера «Arriflex»[454] проходит мимо машины, вступает в гараж, поднимается по внутренней лестнице. И вот мы видим Денниса в голубой спальне, совсем близко. На двухъярусной кровати. Штаны спущены до лодыжек. Медленно мастурбируя одной рукой, другой он лезет в ящик прикроватной тумбочки, вытаскивает флакончик и ловко отвинчивает крышку. Держит флакончик у ноздрей и мастурбирует все неистовей. Один вдох этого сладкого амилнитритового запаха, и он ощущает мягкие губы Черил, ее жаркое тугое влагалище, ее высочайшее совершенство, которого никогда не достичь ее грубой копии — Шарлен. «Ангел», — стонет он на пике оргазма — но вдруг порыв ветра вносит в комнату скорбную жалобу Шарлен, осквернив его видение. Он неистово кончает сквозь осколки разбитой фантазии, брызгают сперма и духи. В бешеной ярости он рывком натягивает штаны, брызги духов впитываются в покрывало с кактусами, а он несется вниз по ступенькам. (Даже когда он очень осторожен, он все равно проливает духи, хоть каплю.)
А Шарлен у себя наверху допевает песню. И в наступившей мирной тишине спокойно сидит у фортепиано, ее лицо безмятежно и до боли прекрасно в этих персиковых сумерках. Но Деннис ударом ноги распахивает дверь, и она вскакивает: он тяжело дышит, кулаки сжаты, красное лицо перекошено жуткой гримасой. Шарлен еще не знает, в чем дело — а ее тихая радость уже сменилась ужасом.
Этот кадр будет последним. По крайней мере, я хочу остановить пленку здесь. Подобных сцен должно было быть множество. Я не хочу снова смотреть, что происходит дальше.
Несколько дней я верил в то, что мой воображаемый документальный фильм в основе своей был правдой. Некоторые сцены были, конечно, основаны на предположениях и догадках, я мог ошибаться в каких-то деталях, но я был вполне уверен в точности передаваемых чувств.
Но насколько истинной была эта эмоциональная точность? Может, на самом деле все, что я навоображал, было вовсе не документальным фильмом, а чем-нибудь вроде мелодрамы, в которой берут реальных людей, несколько всем известных событий — и выдумывают все остальное? Аналогия получалась неприятная, и я постарался на ней не задерживаться.
Как-то ночью, когда я сидел на диване в обнимку с обнаруженной на кухне бутылкой «Метаксы», меня охватил жесточайший циничный ревизионизм. Меня подтолкнул к этому образ самой Шарлен — не с воображаемого целлулоида, а из настоящего, паскудного фильма двадцатилетней давности, снятого на шестнадцатимиллиметровой пленке.
По MTV пустили «Кладовую классики»,[455] рекламный клип «Stingrays» шестьдесят пятого года — «Милый, когда мы в ссоре»; я знал, что он существует, но никогда его не видел. По нынешним стандартам он был топорный: цвета смазаны, режиссура невнятная, техническая сторона — никакая, сюжет — не лучше. Начало было таким: Шарлен свернулась калачиком рядом с мягкими игрушками в простенькой спальне, какие бывают в пригородах; выглядела она раздраженной, а губы ее двигались, воспроизводя слова песни, которую многие считали самой слабой из всего репертуара «Stingrays». И хотя предполагалось, что все это должно было вызывать отвращение к жестокости в любви, на самом деле все было пропитано этой жестокостью, как грязью, а Шарлен изображала сладострастную волну боли в пастельных тонах. «Милый, когда мы в ссоре, — пела она, — меня словно жжет изнутри. Я плачу всю ночь от горя и хочу убежать и скрыться вдали».
Фильм переключается на ссору Шарлен с ударником Фрэнком, который играет ее парня — на пригорородной дороге, на заднем фоне — его хромированный «харлей-дэвидсон» сверкает в грязно-желтых солнечных лучах. Они осыпают друг друга насмешками, как в том вырезанном из «Восхода Скорпиона»[456] эпизоде; воск для мужских причесок, расплавившись, тонкими струйками течет по гнусной красной физиономии Фрэнка. Поначалу это лишь слова, но вот — ХЛЕСЬ! — его рука пролетает по ее лицу. Тут же — Р-РАЗ! — ее ногти полосуют его покрытую оспинами щеку. Она убегает, а он, изумленный, смотрит на кровь на кончиках пальцев.
«Милый, когда мы в ссоре, я поступаю плохо, я знаю». С отчаянным жадным взглядом она подходит к убогому пляжному павильону для танцев (реальное местечко в Оранжевом округе, только оно давно уже развалилось). Присматривается к Бобби, здесь он представляет собой воплощение невинности — голубая серферская рубашка «пендлтон», пушистые (а не сальные) светлые волосы, словом, полная противоположность мачо-байкеровской аморальности Фрэнка. Она протирается мимо Бобби, явно провоцируя его: зажав кончик языка между зубами и строя глазки. Обеспокоенный, он все же ведется и застенчиво приглашает ее потанцевать. «Я просто с ума схожу, милый, когда мы в ссоре с тобой». Они с Бобби покачиваются в медленном танце. Его восторженный взгляд слишком искренен, чтобы быть наигранным. А в ее взгляде — расчетливость, и она поглядывает на дверь. И Фрэнк не разочаровывает ее — он неожиданно врывается в павильон. И как только она видит его, убедившись, что он тоже ее заметил, она соблазняюще смотрит на Бобби и будто бы выдыхает: «Поцелуй меня». И он целует.