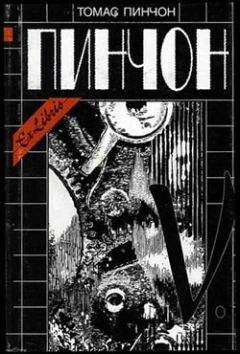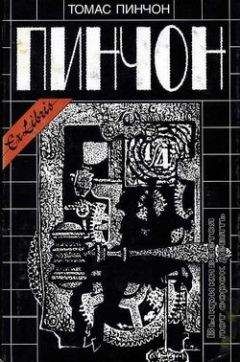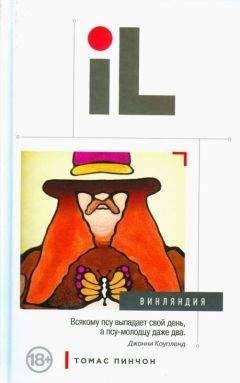Ему снился Fasching – безумный немецкий карнавал наподобие Марди Гра [183], который заканчивается за день до начала Великого поста. После войны в Мюнхене периода Веймарской республики и роста инфляции карнавальное буйство с каждым годом становилось все разнузданнее, и человеческая греховность воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Главным образом потому, что никто в городе не знал, удастся ли дотянуть и дожить до следующего карнавала. Любой дар небес – еда, дрова, уголь – потреблялись мгновенно. Зачем что-то запасать, к чему себя ограничивать? Депрессия серой пеленой висела в воздухе, глядела на вас с лиц людей в очереди за хлебом, утративших человеческий облик от жуткого холода. И по Либихштрассе, где Мондауген снимал комнату в мансарде, крадучись шла депрессия – фигура со старушечьим лицом, укутанная в потрепанное черное пальто; она брела, склонив голову, против ветра, дувшего со стороны Изара [184], и, словно ангел смерти, в любой момент могла розовым плевком пометить двери тех, кому к утру суждено умереть от голода.
Уж стемнело. Мондауген, одетый в старый холщовый пиджак, в длинном колпаке, натянутом на уши, плясал, взявшись за руки с молодыми людьми, которых он не знал, но догадывался, что это были студенты. Они пели предсмертную песнь, петляя из стороны в сторону цепочкой посреди улицы. С соседних улиц доносилось похабно-пьяное пение таких же гуляк. Под деревом возле одного из редких горящих фонарей он заметил прижавшихся друг к другу парня с девчонкой; одна из ее толстых и далеко не юных ляжек была открыта всем зимним ветрам. Мондауген, склонившись, накрыл парочку своим стареньким пиджаком, уронив несколько слезинок, которые, замерзнув на лету, градинками ударились об их окаменевшие тела.
Потом он оказался в пивной. Стар и млад, студенты и рабочие, деды и юные девчушки пили, пели, орали и без разбору волочились друг за другом, невзирая на пол и на возраст. Кто-то развел огонь в камине и принялся поджаривать пойманную на улице кошку. Темные дубовые часы над камином громогласно оттикивали моменты внезапной тишины, в которую время от времени погружалось это сборище. Из круговерти расплывчатых лиц возникла пара девиц, которые взгромоздились к Мондаугену на колени, и он стал жамкать их груди и ляжки и тыкаться в них носом. Пролитое на противоположном конце стола пиво пенной волной захлестнуло весь стол. Огонь, на котором жарилась кошка, перекинулся на столы, и его пришлось заливать пивом; какие-то шутники сперли у незадачливого кулинара почерневшую жирную кошатину и начали швырять ее, как мяч, до волдырей обжигая руки, пока она не сгинула в раскатах смеха. Дым, словно зимний туман, висел в зале, делая колыхание сгрудившихся тел все более похожим на корчи грешников в адском пламени. На всех лицах была одинаковая странная белизна, у всех были впалые щеки, сияющие писки, обтянутые кожей кости умерших от голода.
В черном свитере и черном балетном трико появилась Вера Меровинг (Вера ли? Лицо было полностью скрыто черной маской).
– Пойдем, – прошептала она и, взяв за его руку, повела по узким, едва освещенным улицам, заполненным толпами веселых бражников, которые горланили песни туберкулезными голосами. Белые лица двигались во мраке, качаясь, словно бледные цветы, как будто неведомые силы гнали их на кладбище отдать дань уважения какому-то важному усопшему.
На рассвете она вошла к нему через витражное окно, чтобы сообщить, что казнили еще одного бонделя, на сей раз повесили.
– Пойди посмотри, – сказала она. – В саду.
– Нет, нет.
Повешение было особенно популярно во времена Великого Восстания 1904 – 1907 годов [185], когда племена гереро и готтентотов, которые обычно сражались друг с другом, одновременно, хотя и несогласованно, выступили против некомпетентной немецкой администрации. Для подавления бунта гереро призвали генерала Лотара фон Троту, который во время китайской и восточноафриканской кампаний продемонстрировал Берлину свое умение усмирять цветные народы. В августе 1904 года фон Трота издал «Vemichtungs Befehl» [186], в котором предписывал немецким войскам систематически уничтожать всех мужчин, женщин и детей племени гереро, коих удастся найти. Фон Трота преуспел на 80 процентов. Из приблизительно 80 000 гереро, живших на территории з 1904 году, через семь лет, если судить по проведенной немцами официальной переписи населения, осталось всего лишь 15 130 туземцев, то есть их численность уменьшилась на 64 870 человек. При этом за тот же период численность готтентотов сократилась на 10 000, а племени берг-дамара – на 17000. Учитывая смертность от естественных причин в те противоестественные годы, из которых фон Трота провел в Африке всего один, легко подсчитать, что генерал прикончил 60 000 человек. Это всего лишь один процент от шести миллионов [187], но все равно не так уж мало.
Фоппль впервые прибыл в Юго-Западную Африку молодым рекрутом. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что ему здесь нравится. В тот август, в ту весну-наоборот, он скакал рядом с фон Тротой. «Вдоль дороги валялись раненые или больные, – рассказывал он Мондаугену, – но нам не хотелось тратить патроны, чтобы добить их. Снабжение в те времена было неважным. Одних мы закалывали штыками, других вешали. Процедура была проще некуда: подводили дикаря (парня или девку – все равно) к дереву, ставили его на патронный ящик, делали петлю из веревки (а если ее не было, то из телеграфного провода), накидывали ему на шею, протягивали веревку через сук и привязывали к стволу, а потом выбивали ящик у него из-под ног. Повешенные еще долго агонизировали, но приговоры военно-полевого суда надо было исполнять немедленно. Приходилось пользоваться подручными средствами, не строить же каждый раз эшафот».
– Конечно, нет, – согласился Мондауген, по инженерской привычке просчитав ситуацию, – хотя при таком количестве лишних ящиков и телеграфного провода снабжение вряд ли было таким уж неповоротливым.
– Ого, – сказал Фоппль. – А ты соображаешь.
Мондауген, как оказалось, действительно кое-что соображал. Возможно, по причине телесного переутомления от бесконечных гулянок, он, чтобы отвлечься, стал больше времени заниматься сфериками и заметил нечто необычное в их сигналах. Взяв моторчик одного из граммофонов Фоппля и разыскав в доме перьевую ручку, ролики и несколько длинных листов бумаги, изобретательный Мондауген соорудил нечто вроде осциллографа с самописцем, чтобы в любое время иметь возможность записывать сигналы. В его снаряжении такой прибор не предусматривался, и до сих пор Мондауген в нем не особенно нуждался, поскольку никуда не отлучался со своей предыдущей станции. Разглядывая загадочные линии, он обнаружил в них кое-какие регулярно повторяющиеся комбинации, которые вполне могли оказаться зашифрованными сообщениями. Однако ему потребовалось еще несколько недель, чтобы прийти к выводу, что, только попытавшись разгадать эти сообщения, он сумеет понять: шифр это или не шифр. Его комната заполнилась листами с таблицами, уравнениями, графиками. Казалось, Мондауген трудился не покладая рук под аккомпанемент потрескиваний, шипения, щелчков и свистов, но на самом деле он валял дурака. Что-то мешало ему сосредоточиться. Некоторые события пугали его: однажды ночью во время очередного «тайфуна» самописец застрекотал как очумелый, бешено чиркая пером, и в конце концов сломался. Поломка была пустяковой, и Мондауген легко сумел ее устранить. Но потом ему не давал покоя вопрос, была ли она случайной.
Он приобрел привычку бродить по дому в неурочные часы, заглядывая в самые дальние углы. Как «соглядатай» на приснившемся ему карнавале, Мондауген обнаружил в себе дар интуитивной прозорливости, позволявший ему с извращенной уверенностью угадать не место, а момент, когда лучше всего заняться подглядыванием. Возможно, это было результатом развития того изначального жара, с каким он созерцал Веру Меровинг в первые дни осадного карнавала. К примеру, однажды, прячась за коринфской колонной, освещенной лучами холодного зимнего солнца, Мондауген услышал невдалеке ее голос:
– Нет. Может быть, не такая, как на войне, но уж никак не ложная осада.
Мондауген закурил и выглянул из-за колонны. Вера сидела в кресле-качалке возле пруда с рыбками и беседовала со старым Годольфином.
– Вы помните… – начала она, но тут же осеклась, заметив, должно быть, что мысль о возвращении домой причиняет ему большую боль, чем ее обращение к его памяти, и позволила ему прервать себя:
– Я давно перестал считать осаду чем-то большим, нежели просто одним из способов ведения войны. С этим убеждением я расстался лет двадцать назад, еще до вашего любимого 1904 года.
Она снисходительно объяснила, что в 1904 году жила в другой стране, но для того, чтобы чувствовать какое-то место и время своими, вовсе не обязательно находиться там физически.