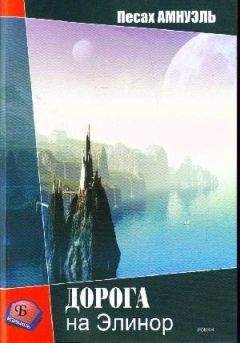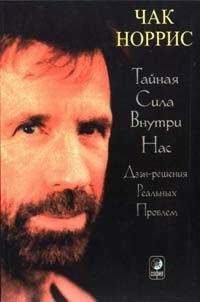Совещание Комитета с адвокатами происходило в верхнем холле гостиницы в присутствии секретаря одного из адвокатов, который стенографировал весь ход совещания и снимал копию с каждого отправляемого письма. Совещание длилось долго, каждый вопрос всесторонне рассматривался, поскольку предельный срок подачи апелляции приближался, и освободился наконец Энникстер только часа в два.
Но, когда они с Магнусом спускались в вестибюль, их внимание привлекло скопление чем-то взволнованных, сосредоточенно кого-то слушавших людей, которые толпились у вращающейся двери, ведущей из вестибюля в бар. В баре находился Дайк - они еще издали услышали раскаты его басистого голоса. Говорил он гневно, перемежая речь сердитыми выкриками. Заинтересовавшись, Магнус и Энникстер подошли ближе - оказалось, они подоспели как раз к началу развертывавшейся драмы.
Утром того дня мать разбудила Дайка на рассвете, как он просил. На товарную станцию ТиЮЗжд в Боннвиле пришла партия жердей для его хмельника, и ему надо.было забрать их и привезти к себе на плантацию. День предстоял трудный. Впереди было много дел. «Сейчас, сейчас,- пробормотал он, когда мать, будя, потянула его за ухо,- доброе утро, мама!»
«Вставай,- сказала мать,- уже шестой час. Скоро завтрак готов».
Он взял ее руку и с нежностью поцеловал. Он очень любил свою мать, не меньше, чем «малявку». В своем домике, отгороженные от мира зелеными рарослями хмеля, они жили втроем дружно и счастливо, ни на что не жалуясь, трудолюбивые, веселые, всем довольные. Дайк был человек веселый, широкая натура, он умел всех заразить хорошим настроением. По вечерам, укладываясь в кровать или на софу, он брал Сидни на руки и затевал с ней всякие игры, прямо как мальчишка, как старший брат. Вдвоем они придумали интереснейшую игру. Бывший машинист, сняв башмаки и задрав кверху ноги, сажал на них Сидни и начинал качать ее как акробат, делая вид, что вот-вот уронит. Сидни, визжа и захлебываясь от восторга, старалась удержаться, а он весело перекидывал ее с ноги на ногу. Заключительный акт, на потеху галерке, состоял в том, что он, подбросив дочку вверх, ловко принимал ее на свою громадную ладонь. Тут уж из кухни вызывалась миссис Дайк. Оба - и отец и дочь - в один голос кричали, чтобы она шла смотреть на них. Миссис Дайк, за-пыхавшись, прибегала из кухни с картофелемялкой в руке.
- Сущие дети! - бормотала она, покачивая головой и любуясь на них, а потом, сунув картофелемялку под мышку, принималась аплодировать.
А заканчивалась игра так: Сидни падала на отца, а тот испускал отчаянный вопль и кричал, что у него переломаны ребра. Закрыв глаза, ловя ртом воздух, он,-казалось, был при последнем издыхании. Сидни каждый раз ловилась на эту удочку; увлеченная игрой, хоть и несколько напуганная, она начинала трясти его, дергать за бороду, пальчиком пыталась разодрать ему веки, умоляя не пугать ее, а открыть глаза и вести себя хорошо.
В то утро, еще не совсем одевшись, Дайк на цыпочках прокрался в комнату матери, чтобы взглянуть на Сидни,- она крепко спала в своей железной кроватке с приоткрытым ртом, подложив руку под голову. Очень осторожно он поцеловал ее дважды, взял со спинки стула, на котором было аккуратно разложено ее белье, один чулочек и сунул в него серебряную монетку, завернутую в бумажку. Подмигнув самому себе, он вышел, с нарочитой осторожностью притворив за собой дверь.
Дайк позавтракал приготовленной матерью яичницей с ветчиной, выпил кофе и полчаса спустя, мурлыча себе под нос какой-то мотивчик, уселся в простую телегу без рессор и, пощелкивая кнутом над спинами крепких, рослых коней, выехал из дому.
Утро было прекрасное, солнце только еще вставало из-за горизонта. Дайк оставил позади погруженную в сон Гвадалахару, по Проселку пересек поля, граничившие с Кьен-Сабе, и выехал на Верхнюю дорогу примерно в миле от Эстакады. Он был в прекрасном настроении, с обеих сторон лежали бурые поля, начинавшие румяниться по мере того, как разгоралась утренняя заря. Казалось, прямо перед ним,- а в действительности на большом расстоянии,- сверкал в первых лучах солнца позолоченный купол здания суда в Боннвиле, а в нескольких милях к северу освященная веками колокольня Сан-Хуанской миссии черно-пурпуровым силуэтом рисовалась на фоне пламенеющего неба. Битюги не спеша, уверенно везли его, а вокруг начинался новый трудовой день. Возле оросительного канала ему повстречалась партия рабочих-португальцев с лопатами и кирками на плечах, шедших на работу. Из-за изгороди ранчо Лос-Муэртос Хувен, уже копошившийся во дворе, прокричал ему: «Доброе утро!» Дальше, на юго-западе, на просторах бескрайних оголенных полей, там, где зеленела рощица сумрачных эвкалиптов и кипарисов, к небу из трубы дерриковской кухни подымалась жиденькая струйка дыма.
Примерно в миле от Эстакады он с удивлением увидел пастуха Ванами, которому покровительствовал Магнус Деррик,-он шел по тропинке, протоптанной через поля Кьен-Сабе, от одной из секторных построек ранчо. Трудно сказать, по каким признакам, но Дайку показалось, что парень провел бессонную ночь.
Когда они поравнялись, Дайк пристально посмотрел его. Он относился к Ванами с некоторым недоверием; как всякий селянин, он считал подозрительными всех, кто был ему непонятен. Принять Ванами за землепашца, за жителя захолустного городка было невозможно. Он был чужак, бродяга, человек не здешний, который внезапно появлялся и таинственно исчезал, не заводил друзей, держался особняком. Ну, например, почему он всегда ходил с непокрытой головой? Почему вздумал носить бородку клинышком, в то время как здесь были приняты окладистые бороды или усы? Почему не стрижется? А главное - почему всегда шатается по ночам? Дайк, при всем своем добродушии, довольно сухо поздоровался с Ванами и потом, обернувшись, внимательно посмотрел вслед.
Дайк не ошибся. Ванами не ночевал в своей постели уже три ночи. В понедельник всю ночь он провел впастырском саду, расположенном чуть повыше цветочногo хозяйства. Во вторник под вечер он был уже далеко к востоку от миссии, в безымянной старице посреди холмов Сьерры, где змеилось давно пересохшее русло когда-то глубокой речки; а в среду провел ночь на заброшенной глинобитной хижине на скотоводческой ферме Остермана, в двадцати милях от места предыдущей ночевки.
Дело в том, что на Ванами опять напало беспокойство. Неведомая сила влекла его куда-то; какой-то неведомый всадник так и пришпоривал его. Опять в нем проснулась врожденная тяга к бродяжничеству и гнала с места на место. Уже некоторое время он числился рабочим на ранчо Лос-Муэртос. На Кьен-Сабе, как и на других фермах, наступил период затишья. В ожидании первых всходов пшеницы все сидели без дела. Ванами перешел на Лос-Муэртос и теперь большую часть дня проводил в седле: разъезжал по горам, дозором объезжал ранчо, гуртил и сторожил скот в четвертом секторе. Но если этого диковатого парня и потянуло опять бродяжничать, то на этот раз что-то сдерживало его. Все чаще и чаще наведывался Ванами в монастырский сад после захода солнца, оставаясь там иногда до рассвета; он ложился ничком на землю, уткнувшись подбородком в скрещенные руки, сверлил взглядом мрак, окутывавший небольшое цветочное хозяйство, и ждал, ждал. С каждым днем он все больше замыкался в себе. Пресли часто навещал его на скотоводческой ферме, где на необозримом пространстве безлесных зеленых холмов он казался особенно одиноким, по Ванами больше не делился с ним своими мыслями. Свои фантастические истории он рассказывал только отцу Саррия.
Продолжая свой путь в сторону Боннвиля, Дайк перебирал в уме все, что ему случалось слышать о Ванами. Ему, как и всем в округе, была известна история Ванами и Анжелы, их романтические свидания в монастырском саду, появление таинственного незнакомца, бегство Ванами в безлюдные районы Юго-Запада, его нежданные возвращения, его непонятный, замкнутый, нелюдимый характер, но, как и многие другие поселяне, он находил всему этому, простое объяснение: ясное дело, парень не в своем уме, только и всего.
До почты в Боннвиле он добрался в одиннадцать часов, но не сразу предъявил в контору Рагглса полученное им извещение о прибытии груза. Захотелось немного побродить по улицам. Он редко бывал в городе, а когда бывал, ему доставляло большое удовольствие лишний раз убедиться, что его здесь знают и любят. Везде у него были друзья: на почте, в аптеке, в парикмахерской, среди людей, толпившихся у здания суда. С каждым он перебрасывался двумя-тремя словами, и почти всегда разговор кончался так:
- Пошли, что ли, выпьем.
- Отчего ж, пошли!
После чего приятели отправлялись в бар гостиницы, где, по заведенному порядку, пили за здоровье друг друга. Дайк, однако, был человек непьющий. Работа на паровозе хорошо вышколила его. Спиртного он в рот не брал и позволял себе только легкие напитки, вроде имбирного пива да лимонада.