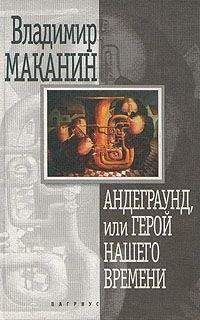— Заходи, отец.
Я спал среди банок пива, кока-колы, коробок с шуршащим печеньем. Электрическая печурка давала сколько-то тепла. И воняла. Кавказцы ушли кто куда. (Мужчин кормят ноги.) Остался заросший тощий малый, сизощекий, с выбитыми зубами. Он беспрерывно курил. Он спал в одном углу, я, скорчившись, в другом. (У него был с собой нож. У меня не было.) Я ворочался. А он спал совсем тихо. Проснувшись, он покормил меня, лепешка, лук, кофе из горелых корок.
И все-таки под крышей, не на улице. Тот, с проколотым сердцем, оставшийся в ту ночь сидеть на скамейке, мог быть его родич. Как знать. Я не спросил. Это было лишнее. Я принял их заботу просто: это жизнь. Это жизнь, мы ее живем. В тот раз он отнял у меня деньги, и я постоял за себя. (Не за деньги. За свое «я».) В этот раз они обогрели меня, накормили, дали ночлег. И я был благодарен. Не за кофе и не за плащишко на рыбьем меху, которым ночью как-никак дали укрыться. За свое «я».
Спросил перед уходом, не надо ли заплатить. Денег не было. Но я спросил.
— Не-е. Будь здоров, отец! — и кавказец развел руками, мол, все в порядке. Три зуба спереди у него были выбиты, он улыбался.
16-го вечером, уходя, я оглянулся с расстояния на покидаемую общагу — на дом. На окна. Как раз падали, по одной, снежинки новой зимы. Композиция изгнания. И окна в подсвет зажглись, тусклым и желтым: нестирающиеся знаки места, где тебя любили.
Так же я оглянулся на дом (поможет или не поможет, а ты оглянись!), когда выбежал вслед за Чубисовым, уже прихватив нож и сунув за носок, в ботинок. Долго мы в тот вечер с ним шли. До окраинных хрущевских строений... Чубика явно устраивало подняться на самый верх пятиэтажки, под крышу, где обычно хлам и старые детские коляски. Подымались шаг в шаг. Напоить и там меня бросить, хоть заблюйся. Или же, напротив, из приятельских чувств он не хотел бросить пьяного агэшника на ночной улице (хотел, чтобы я проспался в тепле, это тоже не исключено). Так или иначе, он сам искал, и я догадался, он-то найдет хорошее место.
Володька-маляр — человек счастливый, таков от рождения.
Володьке полста, то есть помладше меня и к тому же дебилен, но в нашей трудовой паре он — старший. Ладить с ним просто. Обмануть — еще проще. Счастье его простецкой жизни видно сразу, как только он обмакивает в краску кисть: глаза его округляются, он даже задерживает вдох. Млеет. И водит, водит неустающей рукой... По совету какого-то хмыря — здесь же, у гаражей — мы разбавили краску дрянным сливным керосином, предложенным нам задешево. Краски, и точно, стало много больше. Красили валиком на палке (вместо кисти): валик краску сжирал, зато как же быстро красилось! Быстро и деньги получили. Но один из заказчиков ударил Володьку по лицу, а поручившаяся за нас Зинаида оттаскала за ухо, так как после добавления «керосиновой дряни» гаражи день за днем никак не сохли. Машины всей округи казались больными. (Как в нарывах — в пятнах краски, потекшей под солнцем с крыш и стен.) Узнав такую машину на дороге уже издалека, Володька тотчас приветливо махал рукой: наша, родная!..
Когда красим, Володька жаждет рассказывать. Я уже несколько раз ознакомился с его детством, отрочеством и юностью, вплоть до вполне дебильной попытки жениться на своей же тетке — счастливое, по его словам, времечко!
Красим, трудимся — рот Володьки полуоткрыт. Слышу свистящее легкое дыханье счастливца.
Но вот бежит собака.
— Видал? — спрашивает Володька.
И если я отвечу что угодно — нет, — или: а что там? — или: угу, — ишь ты! — да ну ее!.. — любая из нехитрых реплик спровоцирует его на получасовой монолог.
— Видал? — спрашивает Володька.
Молчу. Крашу.
— Собака, — Володька уже ослабил кисть и заметнее приоткрыл рот, готовый говорить о детстве, юности и попытке жениться на тетке.
Молчу.
— Рыжая. Надо ж как! — говорит он ей вслед.
Но я непобедим, молчу, вожу кистью. Зато, когда в обед перекусываем, вареная колбаса, батон и полбутылки водки, я в свою очередь спотыкаюсь о Володькино молчание — о его недвижное (никуда не движущееся) счастливое бытие здесь и сейчас, на траве, в тишине, меж двух недокрашенных гаражей, исходящих острой керосиновой вонью.
Сидим на бревне, хорошо сидим. Легкий водочный хмель на ветру сносит мое «я» к былым дням. Не трава, не толчея крючковатых травинок и не сор подзаборный — это вязь текста возникает перед моими глазами, а пальцы рук рефлекторно (собака Павлова) сами собой заводят мелкий припляс, просясь к пишущей машинке, туки-так, туки-так.
— Володьк! — Теперь я затеваю расслабляющую болтовню: что с оплатой — и дадут ли нам все деньги сразу? и как быть (как оспорить), если недодадут?.. Но Володька сопит, молчит. В чем дело?.. А ни в чем. Оказывается, я-то с ним за весь день возле олифленных заборов словом не обмолвился...
Я смеюсь:
— Так мы ж работали. Кто, Володька, во время работы разговор ведет?!
— Самое оно, — говорит с укором. Обижен.
Гаражи и заборы — я был доволен деньгами; на круг хватило и себе, и расплатиться за былое жилье у Зинаиды. Какое-то время попахивал керосином. Посвистывал. Тогда же (без всякой цели) решил хорошо расстаться с Зинаидой, купил ей желтоянтарные бусы и бутылку портвейна. Я приласкал ее, мы провели час-полтора. Зинаида снова недоумевала — не знала, как понять во мне перемену. Вдруг тоже сделалась нежной. Тихо (боясь спугнуть) нашептывала: «Оставайся. Раз у нас опять дело пошло...» — Даже попробовала курить, на меня глядя.
От счастья, что ли (как мало надо!), она забыла, что меня сюда больше не пускают. Пятнистые парни на входе придержали мой паспорт, пропустив к Зинаиде именно что на час-полтора. Еще и записав на бумажке время с минутами, когда я пересек границу.
С Володькой распрощались у метро. Оказалось, Володька вовсе бездомный. Бомж. (Но в отличие от меня, уже привык.) Жмем руки. Пока. Пока.
— Где ты живешь? — этак легко спросил я, полюбопытствовав у счастливого человека. (Может, и я там зацеплюсь. За чье-то счастье.)
Он тоже этак легко ответил:
— А нигде.
Как отвратительно строили эти десятилетия в Москве наверху и как неплохо (с теряющейся, но не потерянной до конца лубочной эстетикой) лепили метро, станцию за станцией — под землей, внизу. Подземность чувств — не только мое. Душа многих тяготеет сюда, под своды, от дневных глаз подальше. Почему?..
— ... Дай! Дай ему пинка! — Пьяный, грязный, ссутулившийся мужичишка (закурил в вагоне метро!) был за нарушение тотчас выброшен вон. Всеми нами. Дружно. Без сострадания.
После завершающего толчка в спину он вылетел на мраморный пол и под своды — на простор станции. Двери за ним сползлись, закрылись, а мы все поехали дальше. (И вагон сделался чист.) Торжество эстетики. Однако на следующей станции я не вынес и все-таки вышел из вагона, как бы вслед за выброшенным бедолагой (хотя по расстоянию уже за километр от него). Не смог ехать. На секунду подумалось, что все, кто ни есть, с запоздалой солидарностью выскочат, спохватившись, из вагона вслед за мной. И вагон покатит сам. Чистый. Торжественный. Как мечта истового социалиста.
В окультуренном, в щадящем варианте чувство (всякое сильное чувство, вина тоже) уже по необходимости входит и втискивается, наконец, в реальную жизнь — но сначала его очищение Словом. Чувство дышит Словом. Так уж повелось. Человек привык. Но что если в наши дни человек и впрямь учится жить без литературы?
Что, если в наши дни (и с каждым днем все больше) жизнь — самодостаточное действо. Что, если нас только и заботит всеупреждающий страх самосохранения? Живем и живем. Как живу сейчас я. Без оглядки на возможный, параллельно возникающий о нас (и обо мне) текст — на его неодинаковое прочтение.
Что нам дается (и что теряется), если мы отказались и если мысль наша уже не замерцает, не сверкнет в счастливо гнущейся строке, а переживание наше — молча и для себя?
Выйдя из метро, едва не наступил на пса. Едва не споткнулся, как о кочку. (Как о точку. Маленькая, но вечная и неустранимая болевая точка.) С вислыми ушами и черно-белой географией на беспородной спине.
Пес легко отскочил в сторону. «Извини», — сказал я. Один из сотен бездомных псов, что часами сидят у входа (точнее, у выхода) метро, повиливая грязным хвостом и высматривая: «Не мой ли Хозяин?»
Скользящий, но цепкий собачий глаз — и чуткий оттуда запрос в уже натянутой нити взгляда. Сразу чувствуешь доверие, но и сразу же мысленно уходишь, сторонишься, пугаясь этой невостребованной и немереной любви, изначально заложенной во всякой брошенной московской собаке. Сидит, выставив торчащие ребра. Ждет. Побегает, утолит, чем придется, голод, и вновь ждет у метро — у выхода.
Удивительно, как она следила-провожала (и мало-помалу отпускала) меня взглядом. Автономен, красивое слово. Автономность, то бишь моя вчерашняя изгнанность (сколько-то похожая на их, собачью, брошенность), чувствовалась, вероятно, в моем неспешном шаге. Тем самым дал о себе знать. Собака поднялась с земли и пошла. Мы просто погуляли с ней. Я и она. Потом я постоял у метро и покурил, я редко курю, экономлю. (Да и возраст. Желание уже не рвет кишки, как раньше.) Собака тоже постояла со мной. Мы как бы провели вместе время.