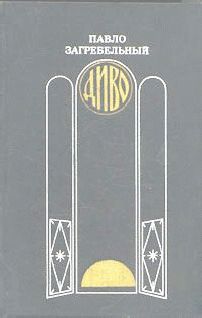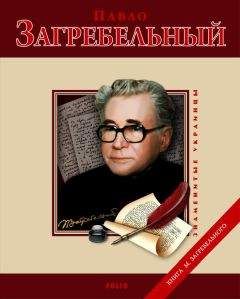Я буду помнить этот суд, пока живу. Когда я вспомнил о нем? Когда сумел увидеть то, чего не мог видеть тогда из-за своей глупости, своего мальчишества, незрелости и душевной черствости? Не знаю. Теперь я часто думаю: может, лучше бы убили меня, чем убивать других? Я никогда не могу привыкнуть к чужим смертям и часто думаю, что легче было бы умереть самому...
И удивительно: я ведь поначалу забыл и о том суде, и о той несчастной матери, как-то оно не зацепилось ни в памяти, ни в сердце, исчезло бесследно, а потом внезапно родилось снова, встало перед глазами, но уже просветленное пониманием, опытом, еще чем-то, чего не могу даже выразить.
- А ты не пробовал найти эту мать? Уже когда сам стал юристом.
- Нет, не пробовал. А что бы я ей сказал? Что мы и дальше будем судить чьих-то детей? У меня такое впечатление, что преступники - как дети. Уже он седой, вроде бы солидный, уже у него самого внуки, а начни следствие - и появляется его мать. И все матери хлопочут, просят, плачут. Ужас! Люди даже не предполагают, как трудно стоять на страже закона.
- Бывает еще труднее, - шмыгнула носиком Наталка.
Твердохлеб, не уловив насмешливости в ее голосе, встрепенулся:
- Кому еще труднее?
- Тому, кто сидит под холодным дождем. Ты забыл обо мне, - напомнила ему Наталка.
- Прости... Я редко бываю таким... Как-то оно само получилось.
- Как дождь? Ты, наверное, родился под дождем, и тебе все равно, а я вся дрожу. Знаешь что? Ты мог бы меня проводить?
Он обрадовался, растерялся и испугался.
- Проводить? Но ведь я... Уже не раз...
- Ну, до метро. Тут недалеко.
- До метро? - разочарование его было таким неприкрытым, что Наталка пожалела Твердохлеба и мягко пожала ему руку.
- До метро, а там будет видно. Идет?
Они почти бегом бросились к входу в метро, долго отряхивались в теплом укромном уголке, не подходя к эскалатору, когда же Наталка слишком уж выразительно посмотрела в ту сторону, Твердохлеб несмело кашлянул:
- Кхе-кхе, так, может, я хоть в метро с тобой?
- Тебе не обязательно спрашивать моего разрешения, чтобы кататься в метро, - засмеялась она.
- С тобой - это не кататься. Это - с тобой.
- А не поздно?
- Для меня такого понятия не существует.
- И никогда не существовало?
- Сейчас это не имеет значения.
Они уже стояли на ступеньках эскалатора, который с едва слышным тарахтением вез их в глубокое тихое подземелье.
В вагоне оба молчали. Пассажиров было немного, все промокшие под дождем, но не настолько, как Наталка и Твердохлеб. Это делало их как бы тайными сообщниками, и Наталка взглядом показывала Твердохлебу, как они, промокшие до нитки, выделяются этим среди всех. Неужели только этим?
Он провожал ее от метро до трамвайной остановки и там стал жаться-мяться, выказывая молчаливое намерение ехать с ней еще и трамваем.
- Ты все же хочешь увидеть мою гостинку?
- Ну, если ты не против...
- Я против, против, против! - громко зашептала она ему в лицо. Слышишь: я против!
- Извини, я не хотел тебя обидеть. Извини...
- Но ведь ты такой мокрый, - неожиданно произнесла она, обернувшись к трамваю, который приближался к остановке.
Твердохлеб подсадил Наталку на ступеньку, а когда она уже была в трамвае, медленно поднялся и сам. И снова молча ехали они в полупустом вагоне, и Твердохлеб не знал, куда они едут, ждал нужной остановки и боялся ее, поэтому вздрогнул, когда Наталка прикоснулась к его руке и показала глазами на выход.
- Уже?
- Приехали.
Гостинка светилась в темноте множеством окон. Девять, а то и все двенадцать этажей, набитых молодежью, которая не знает ночи, усталости и вот такой беспризорности, как у Твердохлеба. Наталка шла к дому быстро, он едва успевал за ней, все время хотел спросить, идти ему за ней или отстать, но она не хотела расспросов, почти бежала, убегала от него, а может, от самой себя, только в подъезде возле лифта решилась взглянуть на Твердохлеба, и он не уловил, чего в этом взгляде больше: насмешливости, предостережения или испуга.
- Имей в виду: я живу высоко. Девятый этаж.
- Для меня девятка всегда была счастливым числом. А высота - я могу хоть пешком на твой девятый...
- За это тебя "Вечерний Киев" не прославит.
- Я привык обходиться без славы.
Лифт спустился вниз, полный молодежи. Твердохлеба никто и не заметил, его оттолкнули в сторону, ребята и девушки гурьбой окружили Наталку.
- Наталка!
- Привет!
- Да ты вся мокрая!
- Разве дождь?
- Ты что - пешком?
- А трамвай?
Сыпали вопросами, не давая ответить, смеялись, подталкивали друг друга. Наталка незаметно отошла к лифту, проталкивая впереди себя Твердохлеба. И не поймешь: с ней этот человек или сам по себе. Когда оказались наконец в кабинке и лифт, щелкнув стальными тросами, со смачным шипением понесся вверх, Твердохлеб несмело приблизился к Наталке, попробовал заглянуть ей в лицо. Оно встревожило его испуганной смуглотой. Может, от скупого освещения? Экономьте электроэнергию и щадите свои чувства?..
- Ты извини, что я так нахально в этот лифт, - пробормотал Твердохлеб. - Но те, там, внизу, просто затолкнули меня в кабину. Они что - твои знакомые?
- А здесь все мои знакомые!
- Только я чужой.
- Не прибедняйся.
Лифт хлопнул, двери автоматически раздвинулись, Наталка выпрыгнула первая, подала руку Твердохлебу.
- Тут порог, не зацепись.
Коридор в обе стороны тянулся, будто в гостинице. Чем-то напоминало барак из Твердохлебового детства.
- Вот такая она - гостинка?
- Вот такая.
Она искала ключи в сумке, подходя к одной из многочисленных дверей. Твердохлеб успел заметить цифру на двери: 59. Когда она уже открывала ее, Твердохлеб ухватил Наталку за руку.
- А тетя Мелашка?
- Уехала в село. Но если мама узнает, что я впустила к себе чужого человека, она меня убьет!
- Разве я чужой?
- А какой же?
- Так, может, мне лучше уйти?
- Уже приехал. Гостей не прогоняют. Хоть немного обсохни.
Из коридора дверь открывалась прямо в комнату. Даже намека на переднюю. Чудеса архитектуры! Наталья мигом сбросила свое пальтишко, и Твердохлеб успел заметить, что она снова в платье-безрукавке ослепительно-вишневого цвета. Хотел сказать, как ей идет это платье, но Наталка нетерпеливо дернула его за рукав:
- Снимай эту мокрядь, повешу, чтоб хоть вода стекла.
- Куда же ты ее?
- А в ванную, там у меня вешалка. Больше негде.
- Давай я сам.
- Там вдвоем не уместимся, давай сюда.
Почти стянув с него мокрое пальто, она на миг исчезла за маленькими дверцами в стене слева и сразу же вернулась, обеими руками пригладила волосы, небезопасно для Твердохлеба подняла руки, и он целомудренно отвернулся.
- Ну, - пригласила Наталка, - проходи. Вот это мои палаты. Там еще дверь - в спальню. Четыре квадратных метра. Тахта и шкаф. Входить можно только боком. А живу на этих двенадцати метрах. Мне хватает.
Он смотрел на комнату. Ничего особенного. Диван и два кресла вишневого цвета. Журнальный столик, под окном стол со стульями. На полу домотканые цветастые дорожки, стены белые, никаких украшений, только над диваном в темной рамке большая фотография, собственно, портрет молодого черноволосого человека с усами подковкой, в костюме и сорочке, чем-то похожего на Твердохлеба: та же небрежность и, можно сказать, безвкусица. Но взгляд глаз поражал глубиной, умом и какой-то затаенной грустью.
- Кто это? - невольно спросил Твердохлеб, тут же пожалев о своей бестактности.
Она взглянула на портрет, словно хотела убедиться, действительно ли об этом человеке спрашивает Твердохлеб, немного помолчала, подошла к столу, смахнув с него невидимую пыль, и только тогда ответила:
- Юра. Юра Швачко.
- Швачко? Но ведь и ты Швачко?
- И я Швачко.
Она посмотрела на Твердохлеба так, что у него отпала всякая охота расспрашивать. Все равно она больше ничего не скажет. Когда хочешь что-то отбросить, нужно забыть, не вспоминать, не говорить. Его профессия расспрашивание. Проклятие профессии! Наталка, вся напружинившись, ждала расспросов, он чувствовал напряженность каждой клеточки ее тела, проклинал себя за глупое любопытство, молчал, и она расслабилась.
- Ты садись, - сказала она. - Садись посиди, а я поставлю чай. У меня здесь и кухня есть. Все маленькое, как мини-юбка, но все есть.
Только теперь Твердохлеб обратил внимание еще на одну особенность этой комнатки. Везде: на столике, на подоконнике, на подставках вдоль стен было множество радиоприемников, магнитофонов, проигрывателей, радиокомбайнов, и все какие-то неизвестные Твердохлебу системы, прекрасное оформление, наверное, высокая кондиция и еще более высокая цена. Не сдержавшись, он опять спросил, хотя снова должен был казниться после Наталкиного ответа.