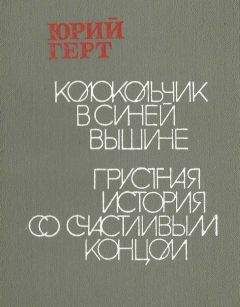Если мне становилось особенно невмоготу, я брел к саду имени Карла Маркса. Здесь выступали теперь какие-то эстрадники, у кассы толпилась очередь, но в ней не было ничего похожего на ту, нашу очередь, где сухонькие старушки в пенсне вспоминали о Шаляпине, о гастролях давнишних лет, а молоденькие студентки музучилища в белых батистовых кофточках с готовностью объясняли каждому желающему разницу между драматическим тенором и лирическим меццо-сопрано... Касса меня не интересовала. Я проходил в сад, благо билета на это не требовалось, бродил но дорожкам, присаживался на скамеечку где-нибудь поблизости от входа в театр. Суровые лица контролеров, еще недавно столь ненавистные для нас с Мишкой, сейчас казались мне самыми милыми на свете.
На площадке перед воротами я останавливался на том самом месте, где мне в затылок фыркнула, тормознув, машина и я обернулся и встретил за стеклом, в глубине, ее взгляд. Единственный, которому никогда в жизни не дано повториться. Здесь, на этом месте, она единственный раз улыбнулась мне — и только, и только... В сознании этого была своя горькая радость.
Я полюбил одиночество. Я сбегал с последних уроков, удивляя не только Мишку, но и привыкших к моему послушанию учителей. Стояла ясная, ранняя осень, пора бабьего лета. Тополя и акации начинали желтеть, но еще не облетали. Небо выгибалось над городом голубым куполом. Кое-где его туманили нежные, как осевшее на стекле дыханье, перистые облака.
Я уходил на огород. Подложив под голову стянутые ремнем учебники, я ложился на пыльную, с жесткими стеблями, сухую траву и смотрел в небо. Пахло картофельной ботвой, помидорами, вялым капустным листом, разогретыми на солнце и как бы впаянными в землю луковками. Круги, вначале синие, потом черные, потом радужные катились у меня перед глазами, обгоняя друг друга. Казалось, земля под моими лопатками начинает мало-помалу колыхаться, покачиваться, и это уже не земля, а вода, несущая бог знает куда мое суденышко, где я лежу на дне... Не все ли равно — куда? Несет — и пускай несет...
Я закрывал глаза; веки мои, просвеченные ярким, но уже не горячим солнцем, наливались его прощальным теплом. Я не спал и не бодрствовал — я грезил. И, как наяну, слышал журчанье бегущей по канавке воды, видел ее серебристую от луны ленточку, видел Мишку, скачущего по кочкам с мотыгой в руках...
Все здесь напоминало мне о ней: волоконце блеснувшей в солнечных лучах паутинки — ее волосы; разлитое в воздухе сиянье — ее глаза; звонкое щебетанье птахи, невидимой в высокой траве,— ее голос... Я знал, что больше никогда ее не увижу. Временами это наполняло меня тяжелой, гнетущей тоской. Не хотелось шевелиться. Не хотелось жить. Ни к чему, казалось мне, вставать завтра утром, тащиться в школу, зубрить бином Ньютона... Ни чему, ни к чему...
Но вместе с тем — и в самые тягостные минуты — где-то во мне, на самом донышке души, жило другое чувство. Я знал, что. под этим солнцем, на этой сирой, неприютной земле где-то существует она... И когда я говорил себе об этом, земля, наш плывущий вокруг солнца шарик начинал сверкать, как убранная драгоценным камнями гетманская булава. Я уже не ощущал себя таким одиноким. Напротив, я жалел тех, кто живет, не подозревая, не ведая, какое это счастье — жить в мире, где есть она...
Но мои мечты, мои мысли бывали зыбки, они сами проплывали, как паутинка, не оставляя следа. Этому противилась моя окрепшая за лето, раздавшаяся вширь рука. Она тянулась в погоню за тем, что ускользало, таяло... В моих пальцах появлялись ручка или карандаш, я выдергивал из ремней с учебниками первую попавшуюся тетрадь, открывал ее с конца, с чистой страницы — и жесткая, рассохшаяся земля становилась моим столом.
Звенели кузнечики, допиликивали свою летнюю, знойную песенку. Жужжали шмели. Сытые, ленивые букашки, ползали между травинок, выписывали круги в воздухе... Мне легко писалось. Казалось, это не я, это она водит моим пером. Ее пальцы мягко и властно сжимают мою руку. И достаточно мне поднять голову, вскинуть глаза — я поймаю ее взгляд, такой же, как тот, брошенный из машины, единственный, мгновенный и вечный.
В такие минуты у меня бывало странное чувство. Мне казалось, что я понимаю и могу описать — и это высокое, белое, как январская снежинка, облако, и отважного греческого партизана, смуглого, курчавого, для которого без свободы нет жизни, и работягу-муравья, который под носом у меня тужится и тянет куда-то сухую соломинку, явно превышавшую его силы. Я писал, и невидимый колокольчик тонко и нежно, словно что-то обещая, звенел и звенел надо мною в синей осенней вышине.
Спокойной ночи (идиш).
И вам того же (идиш).