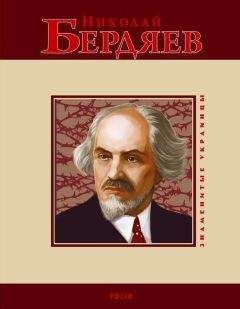Ознакомительная версия.
— Боже, это же знаменитое место!
— Шоб оно не стало еще более знаменитым, — говорит Жора, доставая из багажника мою дорожную сумку, — сойдите с проезжей части…
Маша поднимается со мною в номер, показать — как встречают гостей настоящие одесситы. Номер действительно превосходный, гостиница дорогая, уютно-домашняя… Я ежеминутно помню, что там, внизу, Машу дожидаются Жора и Сеня. Но ее этим не прошибешь. Маша, в отличие от меня, рождена быть начальством…
Она повествует, как Шая наш, приехав с очередной инспекцией «за бдительность в Одессе» душевно проговорил с ней до рассвета, после чего накатал на нее телегу в Иерусалим.
— Он у меня теперь будет гулять по Одессе один, биться лысиной о фонтаны! — обещает Маша.
Когда через час я осторожно напоминаю, что там, внизу, дожидается Жора… Маша говорит:
— …Смотри, этот жлоб получает триста долларов только за то, чтобы провезти меня в офис через Дерибасовскую, а потом в пять отвезти обратно. Я спрашиваю недавно — «Почему Миша ходит с постной рожей?» (это другой наш жлоб-водила), — «У него плохо с финансами». Я говорю: «Смотри, сейчас я сяду, и стану плакать над Мишиными финансами сидя, стоя у меня не выйдет». А он мне: — «Если уж вы ищете поплакать над финансами, поплачьте над моими». Я ему: — «Жорик, Незнанский не имеет столько времени писать свои детективы, сколько ты имеешь времени их читать… А если тебе не нравится твое материальное положение, я могу сейчас рассказать сценарий твоего увольнения: сейчас ты поднимешь мои сумки до квартиры, и, перед тем, как закроешь дверь, я скажу тебе, что завтра ты можешь не выходить на работу».
— «А сколько, вы думаете, мы, шофера, должны получать?!»
— «Ты? Нисколько! Ты уже заработал геморрой на Незнанском»…
И так далее… Ее голос перекатывается, как ручей, одна тема сменяет другую, и все — в точку, все смешно, так что я хохочу, не останавливаясь.
Наконец остаюсь одна… Время — первый час ночи… Я медленно стелю, долго, растягивая удовольствие, стою под горячим душем…
Мысль, что я — в Одессе, в легендарной Одессе, не дает мне покоя… Наконец ложусь, включаю телевизор и попадаю на одну из тех передач, которые, собственно, являются современной заменой Колизея. Они предназначены раззадорить зрителя, ублажить его какой-нибудь дракой между оппонентами, расковырять немного внутренности каждого из участников и продемонстрировать их публике… Словом, включаю, и вдруг вижу Мишу Каценельсона. Он сидит по одну сторону стола — жизнерадостный и боевитый, закидывая пряди волос со лба и заводя их за уши, — а по другую, рядом с ведущим, сидят трое характерных лиц: бородатых, угрюмых и как-то безадресно раздраженных… и минуты через полторы я догадываюсь об источнике этого раздражения. Главный их, косноязыкий, с тяжелым лицом, что-то говорит, но не владеет ни собственным языком, ни темой… Миша улыбается, перебивает, восклицает, речь его, как обычно, закручивается в такие брюссельские кружева, что, не вслушиваясь в текст, я вижу, что Миша делает их, как хочет, одним мизинцем — а заодно с ними и ведущего, просто потому, что никто из оппонентов, а также редакторов передачи, а также зрителей, не понимает его слов, и, следовательно, не может возразить…
Я зеваю, тянусь по одеялу к пульту — выключить этот аттракцион, но вдруг замираю, уловив несколько понятных мне слов. И если вычленить смысл, если обнажить средь Мишиных кружев простую вязку смысла, то сказанное им может звучать примерно следующим образом:
— …к этой теме, теме потерянных израилевых колен, надо подходить с осторожностью, на ней кто только не катался и чего только ни настрочил в самозабвенном упоеньи… По мнению Талмуда, 10 колен утеряны навсегда, и никогда не вернутся, все поиски и розыски, предпринимаемые сегодня, есть не более чем погоня за сенсациями отдельных авантюристов.
Но эта легенда глубоко пустила корни во всемирный фольклор и часто используется во всяких «эзотерических» книженциях. Например, в «Баудолино» Экко тоже не преминул в группу, разыскивающую таинственную страну пресвитера Иоанна, включить еврея, естественно, раввина и, конечно же, Соломона — других ведь имен и занятий у евреев нет и быть не может! Этот раввин вместе со своими христианскими собутыльниками разыскивает пропавшие десять колен и мифическую реку Самбатион. Экко играючи соединил вместе два предания, и получается, будто десять колен живут в стране пресвитера Иоанна и, наверное, как же иначе, исповедуют там истинную христианскую веру, — то есть, по сути, уже не представляют для своего народа никакого интереса…
И далее Миша с удовольствием говорил уже вовсе непонятное о потерянных коленах с точки зрения Кабалы: мол Творец, дабы проявиться в своих созданиях, распространился в десяти свойствах, создав лестницу Его постижения…
Я зевнула и выключила телевизор.
…На другой день, перед выступлением, — а Маша сняла зал на пятьсот мест, и он — как обещает она — будет полным, — меня везут в резиденцию — местное отделение Синдиката. Это непременная часть визита. Каждый синдик считает своим долгом похвастаться перед москвичами своим хозяйством. Как правило, у всех действительно прекрасные офисы. И только мы в Москве продолжаем сидеть в своем оборонном детском садике.
Мы проходим анфиладой каких-то просторных помещений, все встают, вытягиваются, и — не скажу, что падают ниц, но впечатление такое, что весьма к этому близки. Пройдя мимо подчиненного, Маша вполголоса комментирует, представляет, рекомендует:
— Рая Фирман, весит 20 кеге в тапочках, но баба хорошая.
— Фима Крутик, хороший парень, еврейская душа, жлоб, работал вышибалой в пабе в Израиле…
И на ходу, чуть притормозив:
— Рая, как папа?
Рая, одесским зачином:
— Ой, он опять хочет кого-то в дом… Я говорю, — папа, ты приведешь шиксу, она отсудит квартиру, ты кончишь на скамейке… Вчера соседка завела к нему свою сестру, Клаву, хорошую женщину… Так он поставил пластинку, «Аидише мамэ», сидит, плачет… Говорит — Клава, а почему вы не плачете? — А почему я должна плакать? — Если вы не плачете как я, вы — антисемитка, Клава… Она обиделась и ушла. Так шо он уже обратно свободный мужчина…
…Разумеется, мне «показывают Одессу» по полной программе: Дюк… лестница… Приморский бульвар… Какой-то пожилой господин, приветственно машущий из окна угловой гостиницы.
— Сеня Бужерович… — говорит Маша, посылая тому воздушный поцелуй… — Приехал в Израиль лет тридцать назад, валялся на скамейках в парке — ночевал там, больше негде было. Потом — без паузы — стал адвокатом, не зная иврита, и не узнав его никогда. Он нашел нишу: права инвалидов войны. Посадил писать прошения старого еврея из Польши, и дело пошло… Довольно быстро на моих глазах разбогател. Когда встречал меня на улице, кричал: — «Люба моя! Зайди в контору!» Он был писаный красавец. Сейчас ему 75, он и сейчас интересный мужчина со слуховым аппаратом. Регулярно приезжает в Одессу, — ты видела эту гостиницу? Одна из самых дорогих… — много жертвует, ставит памятники. Привозит старых евреев-одесситов с Брайтона, из Филадельфии, из Балтимора…
…На Дерибасовской мальчик лет 17-ти, с фотоаппаратом и каким-то зверьком в руках, кричит нам:
— Молодые люди, обратите внимание! Секунда времени и память на всю жизнь!
Мы подходим. Это шиншилка, юркая, пепельно-серая, теплая…
Он мне:
— Вы знаете, сколько таких вам нужно на шубку?
И мы торжественно снимаемся с шиншилкой на фоне памятника Утесову.
Наутро водитель Жора, бывший судовой механик, заезжает за мною и — так Маша велела! — на прощание делает мне круг по Одессе. Со мной он говорит много, охотно и откровенно, — вероятно, чувствует во мне это нежелание начальствовать. Очень самостоятельные суждения. Своеобразная лексика. Говорит не «развалили Союз», а «разваляли». Мы совершаем круг по центру Одессы, по Молдаванке — темной и облезлой, мимо синагоги Бродского, некогда великолепной, а ныне тусклой и серой, — сейчас там городской архив… Наконец Жора привозит меня к какому-то скверу. Сюда, говорит торжественно, с соответствующим накатанным выражением лица, — в войну евреев сгоняли и отсюда увозили в разные гетто…
Интересно: когда подобные места мне показывают чужие и рассказывают о происходившем здесь, — возможно, действительно, сочувствуя, — я не ощущаю ничего, я — камень, скорлупа моллюска, скрывающая свое пульсирующее нутро.
(Так было в Лейпциге, где милая женщина, редактор моей книги на немецком, показывала мне памятник на месте сожженной синагоги: высокий подиум, на котором рядами стояли привинченные к бетону стулья, просто — пустые металлические стулья.
Я вежливо слушала, спокойно смотрела.
Вечером, оставшись одна в номере гостиницы, вспомнила ряды этих пустых стульев и вдруг расплакалась, — жалея, что не позволила себе сесть и посидеть на одном из них).
Ознакомительная версия.