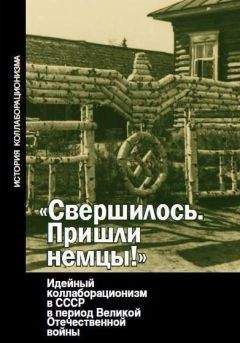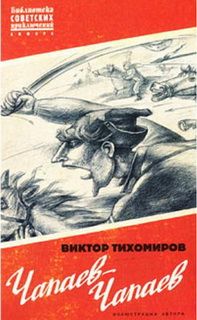Некоторое время никто не нарушал тишины. Я углубился в работу, обдумывая предстоящую беседу с Тимуром Тимуровичем. Логика его действий до сих пор была мне совершенно неясна. Марию выписали через неделю после того, как он разбил бюст Аристотеля о мою голову, а Володину, нормальнее которого я не видел человека в жизни, недавно назначили новый фармакологический курс. Ни в коем случае, размышлял я, не надо придумывать никаких ответов заранее, потому что он может не задать ни одного из вопросов, к которым я подготовлюсь, и я обязательно выдам какую-нибудь из своих заготовок невпопад. Полагаться можно было только на удачу и случай.
– Хорошо, – сказал наконец Володин. – А вы можете привести пример того, что именно подверглось искажению? Рассказать, как все было на самом деле?
– Что именно вас интересует? – спросил я. – Какой из упомянутых вами эпизодов?
– Любой. Или давайте возьмем что-нибудь новое. Ну вот, например, такой – совсем не могу представить, что тут можно исказить. Котовский прислал Чапаеву из Парижа красной икры и коньяка. А Чапаев пишет в ответ: «Спасибо, самогонку мы с Петькой выпили, хоть от нее клопами и воняло, а клюкву есть не стали – уж больно рыбой несет».
Я не выдержал и засмеялся.
– Котовский ничего не присылал из Парижа. А нечто похожее было. Мы сидели в ресторане, действительно пили коньяк и закусывали красной икрой – я понимаю, как это звучит, но черной там не было. У нас был разговор о христианской парадигме, и поэтому мы говорили в ее терминах. Чапаев комментировал одно место из Сведенборга, где луч небесного света упал на дно ада и показался душам, которые там живут, зловонной лужей. Я понял это в том смысле, что трансформируется сам этот свет, а Чапаев сказал, что природа света не меняется, и все зависит от субъекта восприятия. Он сказал, что нет таких сил, которые не пускали бы в рай грешную душу – просто она сама не желает туда идти. Я не понял, как такое может быть, и тогда он сказал, что икра, которую я ем, показалась бы какому-нибудь из ткачей Фурманова клюквой, от которой воняет рыбой.
– Ясно, – сказал Володин и отчего-то побледнел.
Мне в голову пришла неожиданная мысль.
– Постойте-постойте, – сказал я, – а откуда, вы говорите, прислали коньяк?
Володин не ответил.
– А какая разница? – спросил Сердюк.
– Не важно, – сказал я задумчиво, – просто я, кажется, наконец начинаю догадываться, от кого все это может идти. Конечно, странно и совершенно на него не похоже, но все другие объяснения настолько абсурдны…
– Слушай, еще вспомнил, – сказал Сердюк. – Короче, значит, приходит Чапаев к Анке, а она голая сидит…
– Милостивый государь, – перебил я, – вам не кажется, что вы несколько перегибаете палку?
– Так это ж не я придумал, – нагло ответил Сердюк, бросая в угол очередного журавлика. – Короче, он ее спрашивает: «Ты почему голая, Анка?» А она отвечает: «У меня платьев нет». Он тогда шкаф открывает и говорит: «Как нет? Раз платье. Два платье. Привет, Петька. Три платье. Четыре платье».
– Вообще-то, – сказал я, – за такие слова надо было бы дать вам в морду. Но они отчего-то вгоняют меня в меланхолию. На самом деле все было абсолютно иначе. У Анны был день рождения, и мы поехали на пикник. Котовский сразу напился и уснул, а Чапаев стал объяснять Анне, что личность человека похожа на набор платьев, которые по очереди вынимаются из шкафа, и чем менее реален человек на самом деле, тем больше платьев в этом шкафу. Это было его подарком Анне на день рождения – в смысле, не набор платьев, а объяснение. Анна никак не хотела с ним соглашаться. Она пыталась доказать, что все может обстоять так в принципе, но к ней это не относится, потому что она всегда остается собой и не носит никаких масок. Но на все, что она говорила, Чапаев отвечал: «Раз платье. Два платье» и так далее. Понимаете? Потом Анна спросила, кто в таком случае надевает эти платья, и Чапаев ответил, что никого, кто их надевает, не существует. И тут Анна поняла. Она замолчала на несколько секунд, потом кивнула, подняла на него глаза, а Чапаев улыбнулся и сказал: «Привет, Анна!» Это одно из самых дорогих мне воспоминаний… Зачем я вам это рассказываю?
Неожиданно на меня обрушился целый вихрь мыслей. Я вспомнил странную улыбку Котовского при нашем расставании. Не понимаю, подумал я. Про карту сознания он мог слышать, но откуда ему было знать про маскировку? Он же уехал как раз перед этим… И вдруг я вспомнил, что ответил Чапаев на мой вопрос о судьбе Котовского.
В один миг все сделалось для меня предельно ясным. Но Котовский не учел одной вещи, подумал я, чувствуя, как во мне вскипает злоба: он не подумал, что я могу сделать то же самое в точности, что и он. И если этот накокаиненный любитель рысаков и тайной свободы уготовил мне сумасшедший дом, то…
– А я тоже анекдот сейчас расскажу, – сказал я.
Видимо, охватившие меня чувства отразились на моем лице, потому что Сердюк и Володин поглядели на меня с явным испугом; Володин даже подался назад вместе со своим стулом. Сердюк сказал:
– Только переживать не надо, хорошо?
– Так будете слушать? – спросил я. – Значит так. Сейчас… Ага, вот. Папуасы поймали Котовского и говорят: «Мы тебя съедим, а из твоего лысого скальпа сделаем барабан. А теперь загадывай последнее желание». Котовский подумал и говорит: «Дайте мне шило». Дают ему шило, а он как ткнет им себе в голову! И как заорет: «Не будет вам, сволочи, барабана!»
Я свирепо захохотал, и в этот момент дверь открылась. В ней появилось усатое лицо Жербунова. Он опасливо осмотрел комнату и остановил взгляд на мне. Откашлявшись, я поправил воротник халата.
– К Тимуру Тимуровичу.
– Иду, – ответил я, встал со стула и осторожно положил недолепленный бублик из черного пластилина на заваленный сердюковскими журавликами рабочий стол.
* * *
Тимур Тимурович был в отличном расположении духа.
– Вы, Петр, надеюсь, поняли, почему я назвал происшедшее с вами на последнем сеансе полным катарсисом?
Я уклончиво пожал плечами.
– Смотрите, – сказал он. – Я уже объяснял вам как-то, что заблудившаяся психическая энергия может принять форму любой мании или фобии. Мой метод заключается в том, что мы рассматриваем такую манию или фобию исходя из ее внутренней логики. Грубо говоря, вы говорите, что вы Наполеон.
– Я этого не говорю.
– Допустим, что говорите. Так вот, вместо того, чтобы доказывать вам, что вы ошибаетесь, или устраивать вам инсулиновый шок, я отвечаю: очень хорошо. Вы Наполеон. Но что вы будете делать? Высаживаться в Египте? Вводить континентальную блокаду? Или, может быть, вы отречетесь от престола и тихо вернетесь к себе в Корсиканский переулок? И уже из того, как вы ответите на этот вопрос, будет следовать все остальное. Посмотрите, например, на своего соседа Сердюка. Эти японцы, которые якобы заставляли его разрезать себе живот, – самая живучая часть его психического мира. С ними ничего не происходит даже тогда, когда сам Сердюк переживает символическую смерть, – наоборот, в его представлении они остаются жить, когда он уже мертв. А когда он приходит в себя, он не может придумать ничего лучше, чем складывать эти самолетики. Я уверен, это они ему в какой-нибудь новой галлюцинации присоветовали. То есть болезнь поразила настолько обширные зоны психики, что я начинаю иногда подумывать об оперативном вмешательстве.
– Что вы имеете в виду?
– Не важно. Про Сердюка я говорю просто для сравнения. Теперь посмотрите, что произошло с вами. Я нахожу, что это настоящий триумф моего метода. Весь этот болезненно подробный мир, который выстроило ваше помутненное сознание, исчез, растворился в себе, и не под нажимом врача, а как бы следуя своим собственным законам. Ваш психоз исчерпал себя сам. Заблудившаяся психическая энергия интегрировалась с остальной частью психики. Если моя теория верна – а мне хочется в это верить, – вы сейчас абсолютно здоровы.
– Я уверен, что она верна, – сказал я. – Я, конечно, не понимаю ее во всей глубине…
– А вам и не надо ее понимать, – сказал Тимур Тимурович. – Достаточно того, что вы на сегодняшний день ее лучшее подтверждение. И огромное вам спасибо, Петр, за то, что вы так подробно описали ваши галлюцинации – на это способно не так уж много больных. Вы не возражаете, если я использую фрагменты ваших записей в своей монографии?
– Для меня это будет большой честью.
Тимур Тимурович ласково потрепал меня по плечу.
– Ну-ну, не будьте таким официальным. Со мной вы можете вести себя просто. Я ваш друг.
Он взял со стола довольно толстую стопку соединенных скрепкой листов.
– Вот только анкету прошу заполнить со всей серьезностью.
– Анкету?
– Формальность, – сказал Тимур Тимурович. – В Минздраве все время что-нибудь придумывают – штат большой, а делать нечего. Это так называемый тест на проверку социальной адекватности. Там много разных вопросов, и к каждому прилагается несколько вариантов ответа. Один ответ правильный, остальные абсурдны. Нормальный человек распознает все мгновенно.