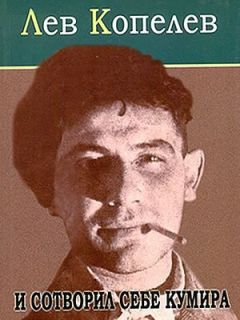Наша дивизия считалась самой „скороходной“ в Красной Армии и нас ежедневно тренировали.
Утром после зарядки еще до завтрака весь полк пробегал не меньше двух километров. От лагеря до полигона – где стреляли боевыми патронами и штурмовали „полевой городок“ было пять с лишним километров. Туда шли обычным шагом, но обратно „марш-броском“. Ни в коем случае нельзя было бежать. Но „шире шаг и даешь темп, так, чтоб три шага в секунду!“
…Сердце колотится под самым кадыком. Горячий пот слепит, жжет. Сапоги и винтовка словно тяжелеют с каждым шагом. Рука, сжимающая ружейный ремень, затекает. И уже начинаешь ненавидеть командира роты – ему-то в хромовых сапожках легче; и никакого груза, кроме планшета; а как безжалостно частит: „Ать-два-три! Ать-два-три… Шире шаг!“
Но вот он словно услышал наши безмолвные проклятья: взял у одного скатку, еще и попрекнул: „Не умеете скатывать. Это ж лепешка какая-то. Согревающий компресс в жару“. Сам надел неуклюжую скатку. У другого взял винтовку. Еще у кого-то противогаз, лопату, подсумок… И все на ходу, все частя „ать-два-три!“ И вот уже шагает с полной выкладкой, веселый, краснорожий, белобрысый, голенастый…
Мы его очень любили, нашего комроты Малахова, бывшего шахтера, ставшего кадровым командиром. Он бегал быстрее всех нас, жонглировал пудовыми гирями, сто раз выжимался на турнике, был лучшим стрелком в дивизии, играл на баяне и отлично пел хриповатым, но задушевным голосом.[314] Неумолимо требовательный строевик, он никогда не ругался, не орал, только хмурился, грозно стискивая толстогубый рот в прямую щель, и говорил нарочито медленно со злой железной внятностью. Но он всегда знал, кто в роте захворал, кто растер ноги, кто не успел поесть. И неукоснительно следил, чтоб лечили, перевязывали, кормили. Вечерами он часто приходил в „ленпалатку“ – дощатую беседку, где на столах лежали газеты и журналы, можно было сыграть в шахматы или шашки – иногда приносил свой баян и распевал с нами; знал множество народных песен, шахтерских романсов, частушек и, разумеется, все революционные и армейские. В дивизии была своя песня, которая нам казалась нескладной, похожая на десятки других полковых и дивизионных маршей.
Артиллерия Донбасса Мощь Союза крепко нам кует. В смертный бой идти готова За трудящийся народ.
Комроты очень гордился, когда возникла наша ротная песня, вскоре ставшая батальонной. Слова сочинил я, а мотив подбирал он и кто-то из бойцов:
Мариупольцам запомнится, Как пыль под небо прет, Когда быстрее конницы Студбат в поход идет. И если будет нужно, Под вражеским огнем Мы тем же шагом дружным К Берлину подойдем.
„Широкий быстрый шаг“ стал и нашим кошмаром, и нашей гордостью.
Командовал полком бывший кавалерист, черно-смуглый, кривоногий. В первый день он представился нам:
– Мое фамилие Ургатаури. Я сам с Кавказа, из такого народа, что вы даже не слышали. Очень, очень маленький народ; только двенадцать тысяч душ есть. Но все за Советскую власть. В гражданскую войну все наши джигиты – это значит мужчины – были красные конники.[315]
Комполка (тогда еще не было офицерских званий), заметив небрежно заправленную койку, невыметенный мусор, говорил сопровождавшему его дежурному неизменно ровным голосом:
– Товарищ дежурный, запишем: командиру взвода мое замечание. И чтоб доложил, какое взыскание даст бойцу, который делает такую безобразию. Записали? А вы доложите командиру роты, чтобы наложил взыскание на дежурного – значит, на вас – за то, что показывали командиру полка такую безобразию, не догадались убрать раньше… Понятно? Ну, а если понятно, почему не повторили приказания? И еще доложите, что забыли повторить приказание. Но за это взыскания не надо, а пусть ему, командиру роты, будет грустно, а вам будет стыдно.
Он тоже иногда приходил в ленпалатку и поучал нас, все так же негромко, без тени улыбки, только чуть щурился, когда мы хохотали.
– Вы должны ходить лучше, чем кони-лошади. А почему? А потому, что кони-лошади не такие сознательные. Лошад не принимают в комсомол, не принимают в профсоюз. Лошад может быть очень умный, но не может быть студент и иметь политическую сознательность. А вы все студенты. Имеются члены профсоюза. Имеются многие члены Ленинского Комсомола. Значит, вы должны быть политически сознательные. Должны ходить быстрее, чем кони-лошади. Чтоб завсегда 130 шагов минута, и когда надо скоростной марш-бросок 170-180 шагов минута. Это есть ваша святая заповед. Красная Армия должна быть самая быстрая армия на весь мир. Наша дивизия самая быстрая дивизия на всю Красную Армию. Наш полк самый быстрый на вся дивизия. Значит, если вы будете самая быстрая рота на полк, вы будете самые быстрые бойцы на весь мир… Это будет очень большая приятность для ваши отец и мать и девушка…
В то лето я очень старался быть хорошим бойцом и очень хотел стать хорошим командиром. Ежедневно выкладывался на спортивной площадке; скрывал хвори и к концу лагерного сбора получил значок „Ворошиловского стрелка“ и звание помкомвзвода – три треугольника в петлицах.
Но, вернувшись в Харьков, опять свалился с тяжелым приступом колихолицистита. И опять болезнь помогла образованию.[316] За несколько недель в постели я законспектировал два тома „Капитала“, „Малую логику“ Гегеля, зубрил математику, физику; выздоровев, сдал все сессии за второй курс и перескочил сразу на третий.
…Шла партийная чистка. Ежедневно в самой большой аудитории старого здания заседала комиссия. Каждый желающий мог придти, задавать вопросы, высказывать свое мнение о том, кто проходил чистку. Комиссия оглашала те письменные заявления, иногда и анонимные, которые считала нужным проверить публично. Большую часть нашей газеты стали занимать отчеты о ходе чистки и заметки о разоблаченных перерожденцах, обманщиках, скрывавших свое происхождение или былые грехи, очерки о достойных коммунистах, чьи заслуги и добродетели были подтверждены проверкой.
Когда чистили нашего редактора, он стоял на трибуне, смущенный, растерянный, а ему из зала задавали вопросы о неправильно поставленных отметках, о квартирной склоке, о каком-то родственнике – нэпмане. Потом вышел к трибуне сотрудник редакции городской газеты, который стал рассказывать, что наш редактор писал „политически ошибочные статьи“, восхвалял каких-то недавно разоблаченных физиков-идеалистов и даже вовсе буржуазных, иностранных ученых.
Тогда и я попросил слова и стал защищать идеологическое целомудрие нашего редактора, доказывал, что его обвинитель злонамеренно искажает факты, выдает за восхваление простую информацию о зарубежных научных работах, своей демагогической болтовней о бдительности проповедует невежество…
На следующий день в редакционный подвал вошел некто в темносинем френче и сапогах, пожилой, уныло серьезный, то ли партработник районного масштаба, то ли преподаватель истории партии.
Он положил на стол несколько листов бумаги, исписанных крупным почерком с завитушками. (Одно время я увлекался графологией и считал, что такие завитушки свидетельствуют о тщеславии, самодовольстве, умственной ограниченности.)
– Это надо передовой в следующий номер.
– Передовые у нас пишет ответственный редактор, а следующий номер уже в машине.[317]
– Ваш редактор еще не прошел чистку. Хотя у него и очень языкастые защитники, но комиссия еще не приняла решения. А этот материал нужно давать немедленно. Так что машину придержите.
Листки были заполнены стандартными фразами о партийности, бдительности, о благотворных последствиях чистки, призывами повышать, углублять, усиливать… Подпись – Блудов – мне ничего не говорила.
– Не вижу причин, чтобы останавливать машину, задерживать номер. В нем серьезные конкретные материалы о чистке, а тут одни общие фразы.
– Вы слишком много себе позволяете. Это партийные установки, а не фразы. А вы – наглый мальчишка, вы еще не знаете, с кем дело имеете, сопляк!
– Нет, знаю с кем. С набитым дураком… И в полумраке было заметно, как взблеснули его тусклые маленькие глаза. Взблеснули злобно и удивленно.
– Ах, вы так разговариваете?! Ну вы еще пожалеете, очень пожалеете!
Он сунул листы в карман и ушел.
На следующий день я узнал, что это был новый ректор университета. Прежнего уже вычистили. Друзья из университетского комитета комсомола советовали мне пойти извиниться, либо даже лучше написать письмо: „Простите, не знал, закрутился, распсиховался“… Но я не хотел. Ведь он первый начал ругаться. И спор был не идеологический, не политический. Обыкновенная свара, как в трамвае, и к тому же наедине.
Наш редактор благополучно прошел чистку. И вскоре докладывал новому ректору о газете. Тот ничего ему не сказал о стычке со мной. Дал ту же самую статью. И она, разумеется, была напечатана. Мы сочли, что „инцидент исперчен“.