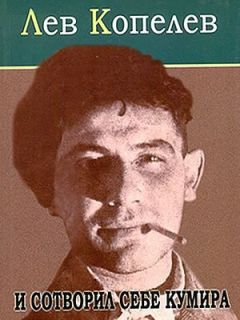Секретарь райкома спрашивал Кубланова и Антоновского: – А кто его дружки-приятели на факультете? Ага, это вы еще не установили? Про внешние связи вам, конечно, другие сигнализировали, а вы сами, значит, только ушами хлопали. Он же у вас отличник считается. Через курс прыгал. В редакцию многотиражки пролез. А кто ему помогал из членов комитета? Из преподавательского состава? Там же у вас наверняка целое гнездо. А он еще тут в райкоме, слышите, как доказывает за свою сознательность, что он всей душой, значит, за генеральную линию. Вроде мы не знаем, как все они, такие, значит, умеют говорить и писать за Советскую власть. Даешь! Ура! А делать, значит, совсем наоборот, тихой сапой. Самое нахальное двурушничество.
Он даже не спросил, хочет ли кто-нибудь из членов бюро райкома высказаться. Заседали уже несколько часов. В тот день рассматривали десятки персональных дел; главным образом исключали. В кабинете секретаря было душно. Тускло желтый свет люстры со стеклянной бахромой расплывался в сизом табачном дыму. Все сидели усталые, осовелые, сонные. Непрерывно курили. Секретарь тоже явно устал. Он смотрел на меня без неприязни и гнева, с безнадежным и словно брезгливым равнодушием. А ведь мы были давно знакомы. Раньше он работал на ХПЗ, был секретарем цеховой ячейки, членом заводского комитета, приходил к нам в редакцию. Однажды после субботника на строительстве Тракторного он и еще кто-то притащили в котлован водки, луку и соевых пряников. Мы все выпили. Обратно шли с песнями, с частушками. Запевали попеременно то он, то я. После этого вечера мы встречались как приятели. Когда он стал секретарем райкома и пришел на собрание в университет, то окликнул меня по-свойски: „Здорово,[323] паровозник! Значит, в науку подался? Грызешь гранит? Философ? Это хорошее дело. Значит, держи комсомольский паровозный курс в философии. А кто тут еще из наших есть?“
Но теперь, когда я пытался возражать на абсурдные, лживые обвинения, он оборвал:
– Хватит, наговорился. Все ясно. Мы вам не верим, и верить не будем. Значит, одно мнение – исключить. И еще добавить пункт, что, значит, не место в университете. И еще: отметить притупление бдительности факультетской организации. И пункт на дальнейшее: чтобы, значит, проверили связи. Кто ему подсоблял, на кого он мог влиять. А также сообщить в организацию паровозного завода, где его принимали. Кто за? Против нет? Воздержавшихся тоже.
И я вышел на вечернюю зимнюю улицу. Одинокий в многолюдной толчее. Встречавшие и обгонявшие разговаривали, смеялись. За освещенными окнами – розовыми, желтыми, разноцветными – в трамваях, в автобусах – всюду люди, занятые своими делами, бедами, радостями. Они близко, но никому нет до меня дела…
Подумал, что, вероятно, так должен чувствоать мнимый покойник, оцепеневший в летаргическом сне. Вокруг жизнь. Друзья, родные, знакомые. Хлопочут. Живут. А его несут в могилу и никто не может помешать…
Через несколько дней вернулась из Киева Надя. Как отнесутся на ее химическом факультете к моему исключению? Я знал, что она ни за что не отступится от меня. Но она не умела ни отругиваться, ни лавировать-дипломатничать. И совершенно не умела говорить неправду. Что, если и там есть наглые демагоги, вроде Кубланова?
К счастью, Надя не была комсомолкой и на химфаке не нашлось особенно бдительных активистов. Ее не тронули. Зато неожиданно возникло „дело“ у моего брата Сани. Он учился в химико-технологическом институте на втором курсе. Недавно стал комсомольцем. Сосед и приятель наших родителей Иван Иванович Плисе, сын сельского кузнеца, в юности был членом боевой организации боротьбистов; после 1905 года попал на каторгу; в 17-м году стал большевиком, комиссарил в Красной Армии; одно время был заместителем наркома сельского [324] хозяйства Украины. В ту зиму он работал где-то в России, но семья еще оставалась в Харькове. Иван Иванович, его жена – тоже член партии, и сын – школьник очень хорошо относились к Сане. Их книжный шкаф стал главным источником его политического образования. Саня нашел там и сборник „За ленинизм против троцкизма“, изданный в 1924 году, составленный из статей Зиновьева, Каменева и Сталина, дружно поносивших Троцкого – автора „Уроков Октября“, как меньшевика, отступника, врага ленинизма и т.д. Этк книгу у Сани выпросил на одну ночь секретарь его комсомольской ячейки. То ли ее заметил кто-то из бдительных соседей в общежитии, то ли сам секретарь поспешил отличиться, но доброжелатель из комитета предупредил Саню, что на него заведено персональное дело о распространении троцкистко-зиновьевской литературы и что его обязательно будут спрашивать, у кого он достал эту книгу.
Не прошло и года с тех пор, как во время партийной чистки Ивану Ивановичу напоминали о „боротьбистском прошлом“, после чего вынесли выговор по какому-то другому ничтожному поводу. Наши родители и его жена были в панике. Если станет известно, откуда взята опасная книга, это приведет к жестокой расправе с Иваном Ивановичем и с его женой.
Сане только что исполнилось двадцать лет. День рождения 14 февраля был очень печальным; гостей не звали; заседал тревожный семейный совет. Мы решили, что он не смеет ни при каких обстоятельствах даже упоминать об Иване Ивановиче. А ответ на вопрос „откуда книга“ подсказывала судьба. Когда арестовали Марка, то у него забрали два мешка именно таких книг. Саня, хотя и не дружил с ним, как раньше я, но все же иногда заходил, советовался перед зачетами по диамату. Решено было: он скажет, что книгу взял у двоюродного брата, без спроса, не застав его дома. Не подозревал, что это вредная книга, ведь в ней статья товарища Сталина. Саня обещал ни на шаг не отступать от этой версии, ни с кем больше не откровенничать, забыть об Иване Ивановиче и не вспоминать меня. Если спросят, говорить: „Старший брат уже пять лет живет в семье жены, общих интересов у нас нет, мы с детства не ладим.“
Это все было в общем правдой. Ссылка на Марка тоже не была выдумкой: ведь Саня у него действительно брал книги. Иван Иванович действительно ничего не знал о том, кто рылся в его шкафу.[325]
Но Саня был растерян и подавлен. Он впервые встретился с предательством и отступничеством. И должен был врать, чтобы не накликать беду на других людей.
Его, разумеется, тоже исключили из комсомола и из института.
В те же дни я узнал, что арестован Илья Фрид.
На собрании заводского комитета комсомола Дус и Лева отказались его осудить и не хотели признать, что его голодовка была „антисоветской, контрреволюционной демонстрацией“. Они упрямо твердили, что знают его как честного коммуниста, который никогда себя не жалел, готов отдать жизнь за партию, за Советскую власть.
Секретарь комитета Костя Трусов, принимавший всех нас в комсомол, был для нас образцом прямоты, справедливости, самозабвенного служения долгу. Он спросил:
– Разве вы не понимаете, что заступаетесь за человека, который уже повторно действует против партии? Мы все его знаем и мы его осудили. Он арестован органами ГПУ. Если чекисты решили его арестовать, значит, за дело. Как же вы можете его защищать?
Дус возразил:
– Мы его знаем лучше, чем все. Арест может быть ошибкой. Второпях погорячились. Сейчас такое время, повышенная бдительность. Именно потому, что мы знаем про эту голодовку, какие у нее причины, чего он хотел, мы считаем – нельзя вот так: раз-раз и все наоборот. Вчера был свой – друг-товарищ, а сегодня – враг-вредитель. Не могу я говорить комсомолу неправду, если я так не думаю.
– Так с кем же вы, с ними или с нами? – Костя говорил негромко, но внятно произносил каждое слово. – Вы должны выбрать.
– Нам надо подумать.
– А ты как считаешь?
Лева не мог отречься от друга.
– Я тоже так. Надо подумать.
Ночью их арестовали.
На следующее утро после заседания райкома, на котором меня исключили, в университете был вывешен приказ ректора: „исключить из состава студентов как неразоружившегося троцкиста“.[326]
Я позвонил в заводскую редакцию. Петя Грубник говорил нервно:
– Исключили, говоришь? И ты уверен, что неправильно? А про Фрида уже знаешь? И про этих, Рубижановича и Раева, тоже? Ты же с ними дружил. Что значит „все дружили“? Каждый должен отвечать за себя. Я уже свои ошибки признал. Потерял бдительность, как шляпа. Верил Фриду и его дружкам. И тебе верил. Я же тебе рекомендацию в партию давал и характеристику подписывал. А тебя вот исключили из комсомола. Я не отрицаю, что верил. Если надо, дисциплинированно приму кару. Умел воровать – умей и ответ держать. А сейчас ты чего хочешь? Чтоб я опять за тебя писал? Ручался, да? Ну и что ж, что знаю? Если спросят, скажу, что знаю. Я и про Фрида и про Дуську знаю, я им тоже давал характеристики. Вот и получил строгача с занесением. А теперь еще и за тебя отвечать? Нет, ты скажи, что бы ты на моем месте делал? Скажи честно! Не знаешь? Ну, вот, и я не знаю. Пиши заявление в комсомольскую организацию. Пусть коллектив решает, какую тебе давать новую характеристику по случаю исключения. Или в партком напиши. От нас ты уже больше года, как ушел. А что ты это время делал, лучше знают те, кто тебя исключал.