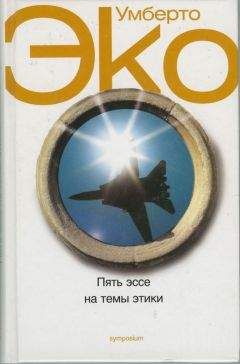Ознакомительная версия.
Благодаря коллекции Липски мне удалось восстановить концовки почти всех фильмов Касла, и теперь зрители получили наконец возможность видеть эти картины в их изначальном варианте. Все сошлись на том, что результат потрясающий; возможно, это был важнейший шаг на пути восстановления репутации Касла. Тем, кто смотрел когда-то одобренные студиями версии касловских фильмов, запомнились картины с одной и той же набившей оскомину концовкой — нечто настолько пресное, что, возможно, весь фильм вскоре стирался из памяти.
Например, концовка (в студийном варианте) картины «Тени над Синг-Сингом» в высшей степени банальна. Спасающийся бегством заключенный убивает садиста-надзирателя, а потом погибает, застреленный, на стене тюрьмы. Он умирает, прося мать простить его. Затем следует быстротечная сцена похорон — сладкий скрипичный сироп на звуковой дорожке, — в которой залитая слезами мать уверяет преисполненного сочувствием директора тюрьмы, что он был хорошим мальчиком, вот только сбился с пути. Типичное окончание тюремных картин тридцатых годов.
Но фильм должен был заканчиваться совсем иначе — ужасающим визуальным этюдом на тему преступления и наказания. Там молодой заключенный, раненный, обреченный, прячется в подвалах тюрьмы. Он находит темный уголок за лабиринтом отопительных труб и всякого железного лома — заточение еще худшее, чем если бы он сидел в камере. Вроде ничего не происходит, но тем не менее сцена обретает мучительную силу. Почему? Ответ лежит в тенях, придающих концовке черноту, которой добивался редкий фильм жанра «нуар». В этих самых тенях мы и находим серию касловского негативного вкрапления: быстрый ряд дополнительных кадров, в которых заключенный сливается с окружающим его камнем; он становится тюрьмой, из которой хочет бежать. Ничто не могло сделать попытку побега более безнадежной.
Потом, когда маслянистые черные тени смыкаются вокруг него, появляется гигантская фигура, едва видимая в колеблющемся сером свете, накладывающемся на темноту: мерзавец-надзиратель, который на протяжении всего фильма мучил парня, теперь огромным изваянием возвышается над ним. Он приобретает гигантские размеры, а заключенный у его ног сокращается до размеров насекомого. Парень поднимает взгляд на эту карающую фигуру; за ней виднеется высокое окно, через которое внутрь проникает солнечный свет. Своим последним движением он тянется к свету, но окно уходит все дальше и дальше и наконец становится мерцающей точкой, которая попадает на глаз охранника, а потом исчезает. Экран гаснет.
В течение следующих нескольких секунд на экране чернота — она приковывает к себе взгляд. Почему? Неосвещенный экран заполняется невидимым вихрем; он начинает незаметно проникать в наше сознание, вовлекая в себя и наш рассудок. На поверхности мы видим всего лишь что-то похожее на царапины на пленке, блики света, но воздействие их на нас гипнотическое. Зритель физически ощущает падение в бездонный колодец — все глубже, глубже, глубже… Публика как милосердия ждет привычного слова: «Конец». Касл отказывает им в этом. Падение продолжается без конца, у этой пропасти нет дна. Мы сидим и смотрим на пустой, темный экран, не понимая, почему эта чернота приковывает нас. Эффект вихря наконец растворяется в темноте зала, отпуская растревоженную аудиторию.
Настанет день, и ученая братия наречет финал «Теней над Синг-Сингом» черной дырой, предположив, что сила его воздействия каким-то образом связана с особенностями рассказанной истории. Продолжается концовка всего шестнадцать секунд, но эти несколько секунд показались слишком драматическими для обычной картины категории «В», урожая 1936 года. Поэтому финал без лишних разговоров был отрезан и сохранился только благодаря преданности Зипа Липски.
У Касла был неисчерпаемый запас всевозможных трюков. Многие из них и по сей день остались нераскрытыми, неизвестными режиссерам, пришедшим после него, — секреты мастерства гения. Но кое-что из обнаруженного мной при внимательном просмотре было достойно внимания не менее, чем любой из его нетрадиционных методов. Не раз ему удавалось добиться желаемого эффекта и без всяких замысловатых трюков. Я выделил из нескольких его фильмов сцены необыкновенной силы, будучи убежден, что в них есть какая-то скрытая хитрость. Но в конечном счете выяснилось, что там нет ничего, кроме освещения, работы с камерой, монтажа — основных элементов киномастерства, известных каждому режиссеру. Касл, делая кино на жалкие гроши и по бездарным сценариям, мог снимать лучше других, хотя и не всегда — от случая к случаю, когда сроки не поджимали, когда можно было выклянчить у администрации несколько дополнительных долларов. Если же ресурсы были на исходе и Касл не мог больше выжать ничего ни из актеров, ни из сценария, то он знал, как умелым монтажом сгладить слабые места или сделать их незаметными с помощью неожиданных и отвлекающих ходов.
Но многие его фильмы такого рода ждала та же судьба, что и фильмы со скрытым материалом. Руководство студий находило ленты Касла тревожными и безжалостно пользовалось ножницами. Например, в конце «Дома крови» вампира перед самым рассветом находят в гробу. Преследователи приставляют кол к его груди и уже готовы пронзить ее. До этого момента события развиваются по голливудским клише, и все вот-вот должно разрешиться обычной для фильмов про Дракулу концовкой. Но в оригинальном варианте, сохранившемся у Зипа Липски, глаза графа вдруг открываются и он выпрастывает руку, но не для того, чтобы защитить себя, нет, он гладит кол и устанавливает его точно над своим сердцем. Он нетерпеливо торопит удар, который покончит с его жутким существованием. А когда кол проникает в него, граф издает глубокий благодарный вздох. Нет, вздохом это назвать нельзя. Это счастливое последнее издыхание, выдох, задержанный на несколько веков и наконец вырвавшийся на свободу. Орсон, хотя на экране его и не видно, мог гордиться содеянным. Этот единственный стон-стенание-рев, возможно, был одним из высших его артистических достижений.
Однако студия сочла такой финал абсолютно неприемлемым, и он был заменен привычной борьбой; граф отбивается от преследователей, а с наступлением дня, крича и извиваясь, быстро разлагается. Затем неестественный наплыв и масса обычного кинотумана. Вампир истлевает на заднем плане, а в кадр входят герой и героиня, обнимаются и целуются. Очевидно, что эта сцена являла собой поспешную доделку, была слеплена на скорую руку и плохо поставлена.
В свадебной сцене «Поцелуя вампира» есть и еще более поразительный пример работы Касла без помощи Unenthüllte, где он достигает такого эффекта, что у других режиссеров просто слюнки текут. Герой начал подозревать, что его невеста, возможно, одна из неумерших. Так это или нет? Мы никогда не узнаем в точности, но кое-какие намеки имеются. Первый появляется в эпизоде, который студия решила изъять, сочтя непристойным. Это одна из самых жестоких купюр, сделанных в фильмах Касла. В пущенной в прокат версии новобрачные — Хелен Чандлер и Дэвид Брюс{235} — целуются перед сном и выключают свет. Эпизод резко обрывается. Но в касловской версии эта сцена продолжается еще сорок девять секунд — знаменитые теперь сорок девять секунд, изучаемые во всех киноинститутах. Уже одно операторское искусство Зипа (неровные контрасты черного и белого, от которых у фильма словно вырастают клыки) могло бы гарантировать этому эпизоду бессмертие. Но касловская звуковая дорожка добавляет сцене новое измерение, которому позавидовал бы даже Орсон. Ничего, кроме тяжелого дыхания — сначала женщины, а потом мужчины. Потом дыхание учащается, женщина издает сладострастные звуки. Камера змеей обвивается вокруг них, чуть ли не ползет по ним. Мы видим пару крупным планом, лица и обнаженные плечи проносятся перед глазами в неожиданных ракурсах, кожа контрастирует с полосами света, проникающим в комнату через жалюзи. Камера медлит, показывая зрителям несколько неторопливых поцелуев. Лучик света попадает на влажные губы женщины, сверкнувшие в полутьме. Полосчатый свет, неторопливо закручивающийся в какую-то безумную спираль, придает эпизоду призрачность, актеры словно играют с вами в прятки, то проявляясь на свету, то исчезая. Ее рука заполняет экран, пальцы сгибаются и разгибаются, медленно поглаживая его плечо, перебирая волосы на его груди — этакая когтистая ласка. Нам кажется, что мы видим, как ее ногти прочерчивают на коже мужчины кровавые следы. Мы видим чувственный изгиб кожи — это ее плоть, ее контуры, — их обводит его рука, но камера берет слишком крупный план, и никак не разобрать, что это за часть тела. Она нагибается, чтобы поцеловать впадинку у него под кадыком — ее открытый, ищущий рот исчезает, попав в полосу черной, как вороново крыло, темноты. Ее надвигающиеся губы заполняют экран; один раз неярко сверкнули ее белые зубы. В его глазах отразился страх, но они тут же исчезли в тени. Она что — впилась в него зубами в этот миг? Прежде чем погаснет экран, мы слышим сдавленный довольный смешок.
Ознакомительная версия.