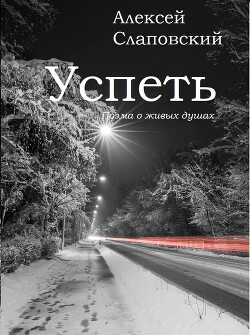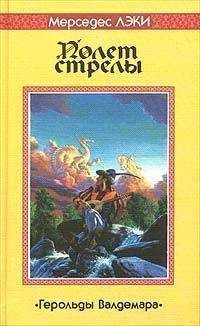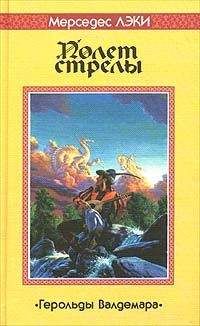Дочери к той поре уехали учиться и работать в Рязань, вышли замуж, криминальные составляющие жизни упорядочились и перешли в руки государства, Светлана поняла, что теперь можно опять заняться чем-то на земле. Не столько даже для продажи, сколько чтобы детей и внуков обеспечить, чтобы приятно было им, приехав в гости, покушать помидорчиков с грядки, яблочков с дерева, малинки с куста. Оставалось кое-что и на продажу, но не в таком объеме, чтобы это вызвало чью-то коммерческую ревность.
Так они и живут, слава богу, с Сергеем вместе вот уже сорок один год, и Светлана понимает, что без него затоскует и с ума сойдет, следит за его здоровьем, но чтобы при этом ее волновала, как бы сказать, интимная сторона вопроса, это нет, этого не было. И к супружеским обязанностям она относилась именно как обязанностям, ей было достаточно прижаться, обняться, а это вот ерзанье всегда казалось ей смешным и глупым, даже когда в результате получались дети. Странно, что такой серьезный процесс, продолжение жизни, доверен самым некрасивым органам тела, самым грязным, хотя некоторые дантисты не согласны с этим, слышала Светлана и такое мнение. И ни к кому не было у нее низового влечения, ни разу в жизни не взглянула Светлана ни на одного мужчину, выражаясь библейски, с вожделением. Смотрела иногда с симпатией, с уважением, но не более того.
И когда, после рассказа Риммы Сергеевны, все обратили взгляды на нее, Светлана Павловна сказала:
— У нас с Сережей все просто: как со школы дружили, так и поженились, так и прожили всю жизнь. Я не знаю, какую вам еще любовь надо, но факты сами за себя говорят. Да, Сереж?
А Сергей Михалыч, слушая рассказы о самой сильной любви, думал: хорошо, что он последний. Можно заранее что-то придумать. Отшутиться. Вроде: с женой любим друг друга до гроба, дураки оба.
Потому что он на самом деле не дурак и не намерен выкладывать настоящую правду. Правда эта в том, что он две трети жизни любил другую женщину. Наташа Уборкина ее звали. Он влюбился в эту красивую, смешливую, дерзкую девочку, когда ему было десять, а она появилась в классе, приехав вместе с родителями откуда-то, как она говорила, с северов.
Он учился, рос, думая о Наташе, но ничем не проявлял своей любви. Разве что в седьмом классе дал одному по уху, когда тот обозвал Наташу Уборной. Но дал не при всех, а за школой, возле одноэтажного здания интерната, который был при школе — для деревенских. И этот обзывальщик, кажется, тоже был деревенским. Теперь и лица его не вспомнить.
Но после восьмого класса Наташа ушла в пищевое училище. Ничего, думал Сергей. Вот окончу школу, встречу ее и все ей скажу.
Наташа очень рано вышла замуж, а Сергей отправился в армию. Ничего, думал он. Такие долго с первыми мужьями не живут. Вернусь и посмотрим.
Он вернулся и обнаружил, что Наташа, как он и предполагал, развелась, но куда-то уехала. И он женился на Светлане, которая очень этого хотела, да и Сергей был не против. И тут Наташа явилась в поселок. Красивая, свободная, с квалификацией мастера дамской стрижки. Сергей намылился было к ней, но родилась дочь. Ничего, думал он, дочка подрастет, наверстаю.
Дочка не успела подрасти, родилась вторая. А потом Светлана затеялась с теплицами. Ничего, думал Сергей, строя теплицы, вот сделаю все для обеспечения семьи и с чистой совестью уйду к Наташе.
Но Наташа вторично вышла замуж, а Светлана уговорила сменить город на деревню, заняться свиноводством. Не бросать же ее на полпути, это будет предательство. Ничего, думал Сергей, разведем мясную отрасль, все налажу, чтобы само работало, и начну новую жизнь. С Наташей. Тем более, что она опять в разводе.
А тут пожар, в беде семью не оставишь. Потом освоение кладбищенского бизнеса, захватившее Сергея: реализовал наконец свои способности.
Ничего, думал он, дочери совсем взрослые, бизнес на мази, могут уже и без меня продолжить, наймут кого-нибудь, пора признаться во всем жене, а потом — Наташе.
И признался, но сначала не жене, а Наташе, которая была свободна после третьего брака и все еще красива, только немного располнела, что с женщинами после сорока бывает. Приехал в поселок, пришел к ней с вином и все сказал. Она, выслушав, усмехнулась:
«Надо же. А я в тебя с пятого класса влюбилась. И, может, до сих пор. Но ты в свою Светку вцепился, я не сволочь, чтобы семейное счастье разбивать».
«Да, весело, — сказал Сергей. — Но не поздно ведь еще».
«Поздно. Операция была, Сереж, почти все женское вырезали».
Сергей был ошарашен. И ему было стыдно, потому что еще до признания Наташи, когда сел с нею за стол и выпил, и разглядел ее, понял, что давно уже ее не любит. Если что и любил остаточно последние десять лет, так свою идею изменить жизнь. До этого лишь раз он пробовал это сделать, когда поехал в Саратов поступать в училище, где ему сказали: рука есть, глаз есть, но у нас таких претендентов много, а индивидуальности, уж извините, не видим.
Почему же, с болью поняв свою нелюбовь, он все же не остановился, продолжил изливаться и откровенничать и сделал ей, по сути, предложение? Неизвестно, он до сих пор этого не понимает. Но помнит свое паскудное облегчение после ее слов о болезни. А когда через год узнал о смерти Наташи, и вовсе гора с плеч свалилась. Если перед кем-то чувствуешь вину, в этом участвуют два человека — ты сам и тот, перед кем эту вину чувствуешь. Но исчезает этот человек, и нет смысла продолжать быть виноватым. Не перед кем.
И Сергей Михалыч коротко ответил на вопрос жены:
— Да.
И хмыкнул при этом, смутился, как обычно смущаются люди, вынужденные говорить о своих высоких чувствах. Сам поразился, насколько умело изобразил то, чего нет. Прямо актер доморощенный, откуда что взялось! Но тут же себе возразил: да не изображал я ничего, мне и вправду стеснительно признаваться в любви к собственной жене. Значит, есть она, эта любовь? А может, и всегда была? Хорошо, что теперь надо пить, и Сергей Михалыч поднял стакан, прикрыл им лицо, пил долго, как женщина, чтобы успеть привести лицо в порядок, в обычное спокойное выражение, которым он всегда гордился, а жена очень уважала его за невозмутимость в любых, самых трудных житейских ситуациях.
34
Утро, ясное утро давно уже наползало на Российскую Федерацию, начавшись с безлюдного Мыса Дежнева, прокатившись по Магадану, Владивостоку, Чите, Иркутску, Омску, Екатеринбургу, Саратову, Москве, Смоленску, оттесняя темень и мрак к Западу, где им и место, и давая свет и надежду всем, кто выжил после ночи.
Настя, выспавшись, чувствовала себя вполне сносно и пожалела, что скоропалительно согласилась на госпитализацию. Будет обход, надо попроситься домой. Может, у нее даже и не ковид, а просто все сошлось — простуда, переутомление, да еще развод этот, расставание с Антоном, к чему она давно готовилась и все же оказалась не вполне готова.
Палата была на шесть коек — три по одной стене, три по другой, в середине проход, между койками тоже промежутки, но узкие, едва можно протиснуться боком. Обоняние к Насте вернулось (а может, и не исчезало, может, нервное все это было?), и она чувствовала, что пахло в палате не как в больнице, а как в новой квартире — краской, пластиком, мелом; соседка Насти, заметив, что она с любопытством оглядывает палату, сказала:
— Новое отделение открыли, нас ночью всех сюда перевезли. Мы еще относительно легкие считаемся, — добавила она, утешая Настю и саму себя.
Настало время завтрака, три ходячие женщины пошли в столовую, а трем лежачим, в том числе Насте, привезли на тележке магазинный йогурт, баночки с детским пюре и пакетики сока, тоже детского. Настя сказала, что хорошо себя чувствует и может сама пойти в столовую, но девушка, развозившая завтрак, в обычном халате и обычной маске, и этот ее вид успокаивал и обнадеживал, быть может, она переболела и не очень боялась, значит, можно переболеть и не бояться, эта девушка весело ответила:
— Да лежите спокойно, чего вы? У нас все распределено — кому в столовой, кому в палатах. А то вы там поедите, и там будет нехватка, а у меня лишнее останется, выйдет путаница!