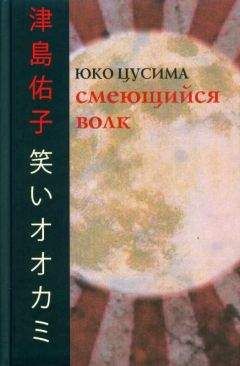В сладкой как мёд дремоте я мурлыкала про себя какую-то песенку. Что-то вроде псалма, который мы только недавно разучивали в уроке в школе. Но в то же время она была похожа и на мелодии песен, которые мы пели в начальной школе — «Лето пришло» или «Когда цветут фиалки». Я как бы ещё и слушала себя со стороны, очарованная волшебным напевом. Так я все продолжала мурлыкать про себя, и одна за другой родилось несколько чудесных песен. Но тут мама стала меня ругать: «Перестань! Сколько можно?! Прекрати это мерзкое мурлыканье!» И больше, как я ни старалась, такого счастья от мурлыканья я уже испытать не могла…
На пустыре поблизости водянисто блестел осколок стекла. От чего были осколок, разглядеть я не могла, но он были довольно толстый, с шершавой поверхностью, так что в прозрачной массе разливалась белёсая муть. Почему-то мне страшно понравился этот цвет, просто околдовал. «Будто ледяной нарост во дворце Снежной Королевы», — по-ребячьи думала я.
Почему-то сейчас вспоминались даже такие пустячные детали. Конечно, тот осколок вскоре потерялся. Да, то ведь был просто осколок стекла, и, наверное, его потом выкинули. Но и сейчас, когда я вспоминаю ту белёсую замутнённую глубь стекла, мне всё кажется, что из неё вот-вот появится что-то необыкновенное, и оживает то сладкое предчувствие счастья…
Я несколько раз открывала глаза, но Акела, он же Реми, он же Мицуо был всё время на месте. До сих пор помню мою радость, когда я видела его рядом со мной. Просыпаясь утром, я представляла, как сейчас потянется долгий день, и впадала в хандру. Так было каждое утро. Я вздыхала оттого, что некуда было деться от этой тяжкой обязанности — вставать по утрам. Но, отправившись с Мицуо в путешествие, я и думать забыла о своей утренней хандре.
Под звуки песенки, которую я продолжала мурлыкать, блики от речной воды меняли форму, струились и переливались. Внезапно сладкая дремота оборвалась: кто-то грубо схватил меня за плечи и приподнял.
— Полиция! Вот он, держите! Вот он, мерзавец! — обрушились одновременно со всех сторон взволнованные мужские голоса. — Ты ведь Юки, да? Ты не ранена? Ну вот и хорошо! Теперь ни о чём не беспокойся! — донеслось до меня чьё-то бормотанье.
С последней отчаянной надеждой я посмотрела на Мицуо. Его держали двое неприятных на вид мужчин в чёрном. На руки ему надели наручники. Лицо его покрывала смертельная бледность, когда он повернулся ко мне. В его больших глазах лучился синеватый отблеск. Наверное, он что-то сказал в этот момент. А я, наверное, закричала. Может быть, я билась, вырывалась, звала Мицуо по имени и кричала: «Что вы делаете?! Перестаньте! Отпустите его!» Но нет, наверное, ни я, ни Мицуо не сказали ни слова — только посмотрели друг на друга, а потом я, конечно, разрыдалась. То, чего мы оба втайне так боялись, наконец свершилось — вдруг отчётливо поняла я, и меня охватило безысходное отчаяние от предстоящей неожиданной разлуки. Больше нам уже никогда не встретиться! Это было отчаяние, которое испытывают люди, провожая покойника. Державшие его мужчины стащили Мицуо с сиденья и, пиная, с ругательствами поволокли по проходу, а он всё оглядывался на меня, пока не скрылся из виду. На лице его не было слёз — на нём читался только страх. Его глаза с синеватым отливом были похожи на глаза волка. Таким я видела его в последний раз.
Поезд — возможно, в связи с арестом Мицуо — задержался на станции. Меня кто-то обхватил за плечи и повёл к выходу из вагона в противоположную от Мицуо сторону. Обливаясь слезами, я всё искала его на платформе. Куда они дели моего Мицуо?! Его нигде не было видно. Наверное, его уже посадили в патрульную полицейскую машину, которая ждала на площади у станции. Чья-то вонючая лапа держала меня за плечи, а я вырывалась и рыдала в голос. Меня тоже, как преступника, запихнули в машину, которая ждала у станции, между следователем в штатском и женщиной-полицейским в форме, и так везли до Тоёхаси. Завыла сирена, оглашая окрестности. Наверное, это была полицейская машина, в которой везли Мицуо. Наша машина без всякой сирены на обычной скорости катила по узкой просёлочной дороге. Всё также за окном, в том, другом мире ослепительно сияло солнце. Я с тоской вспоминала всё, чему меня научил Мицуо: «Мы с тобой одной крови, ты и я!», «Доброй охоты всем, кто соблюдает Закон джунглей!», и сам «Закон джунглей», и Реми, и Капи, и рассказы про Ганди. Неужели теперь всё это исчезнет?.. Что же теперь будет, какое время настанет, когда мы утратим Закон джунглей?.. И я, и Мицуо — мы оба снова стали одиноки.
Обнаруживший нас в поезде на линии Иида местный житель обратил внимание на моё сходство с напечатанной в газете фотографией. Он сразу же сообщил кондуктору, тот немедленно доложил служащим линии на ближайшей станции. Со станции доложили в полицию. Сначала местные полицейские и подоспевшая позже оперативная группа, посланная из Тоёхаси, окружили наш вагон. Несколько переодетых полицейских пошли по проходу с обеих сторон и стали сверять, те ли мы, кого они ищут. Затем наметили станцию, на которой нас будут брать, и подогнали туда патрульные машины. Как только поезд остановился на этой станции, они нас схватили. Так, наверное, всё было. Станция называлась Тоёкава. Мы никаких приготовлений не видели и не чувствовали, пока любовались видами гор и сладко дремали. Потом я ещё долго с ужасом вспоминала о том времени, когда мы, ничего не ведая, уже были под наблюдением. Мы ведь ничего не могли знать о приближающейся опасности.
В полицейском управлении в Тоёхаси с меня сняли первичный допрос. Чтобы как-то выгородить Мицуо, я упорно твердила, что он меня вовсе не похищал, что я сама пошла с ним. Но, поскольку по-настоящему меня должны были допрашивать в Токио, полицейские слушали меня в пол-уха. Они передали мне мои вещи: пиджак, бейсболку и узелок с вещами. Все эти вещи принесли потом — они остались на сиденье в вагоне, когда меня так неожиданно схватили и увели. Следователь велел посмотреть, что в узелке, и подтвердить, что вещи мои. Там оказались кроме грязного полотенца намокший рулон туалетной бумаги, зубная щётка, алюминиевая кружка и банка из-под леденцов. Ещё там была самодельная бумажная папка с наклеенной на лист бумаги вырезкой из газеты, которой Мицуо так дорожил. Зачем-то он её, наверное, переложил в мой узелок. То ли по ошибке, то ли нарочно. В общем, я решила, что она у меня останется. Мицуо, наверное, не стал бы возражать. Я развернула бумажный лист. Кроме наклеенной газетной заметки с фотографией кладбища и портретом моего отца там были ещё штук двадцать вырезок из газет в конторском конверте. Все они были связаны с теми событиями: с самоубийством моего отца, когда я была ещё младенцем, а Мицуо жил на кладбище. Эти заметки он тоже наверняка вырезал из библиотечных газетных подшивок. Я даже чуть не рассмеялась при мысли о том, какие дыры остались в тех газетах. Там были заметки о брошенном ребёнке, о самоубийстве целой семьи, о бродячих собаках, о холере… Это был, так сказать, ещё один мир, которым жил Мицуо, — мир, откуда открывался вход в «холодную спальню» обезьян.
После того, как я опознала свои личные вещи, меня в сопровождении женщины-полицейского отправили в городскую больницу. Мицуо тоже, вероятно, доставили туда, но я не знала, где он, и не понимала, зачем всё это. Сколько я ни просила, чтобы с Мицуо не обращались как с преступником, ничего изменить я не могла: я находилась теперь «под охраной и на попечении», а он «под арестом». Мне, в мои двенадцать лет, хорошо была понятна огромная разница между первым и вторым. Учитывая эту разницу, сколько бы я ни умоляла дать мне увидеться с Мицуо, сколько бы ни кричала, ни звала его по имени, всё равно от этого не было бы никакого проку, — в чём я вполне отдавала себе отчёт. Так что я не рыдала и не требовала дать мне с ним встретиться, а просто подчинялась тому, что говорили мне взрослые. Но горькие мысли, словно лёд, холодили сердце.
Хотя я не была больна, в больнице меня уложили на койку и провели медицинский осмотр. С меня сняли одежду, санитарки обтёрли влажными полотенцами всё тело. Мне дали белый спальный халатик, я легла в постель, и сразу же навалилась свинцовая дремота. Я мгновенно провалилась в глубокий сон — наконец-то снова на настоящей кровати.
Когда я проснулась, передо мной было такое знакомое лицо мамы. Она смотрела на меня не отрываясь. Я поспешно снова закрыла глаза. Мама продолжала ещё внимательнее смотреть на меня. С того момента я поняла, что меня вернули в мамино время и пространство.
Прошло, наверное, дня два, пока мы вернулись в Токио. Точно уже не помню. Кажется, в эти дни я только спала и ела. Больше мне ничего не хотелось. Я не могла ни о чём думать и ничего не чувствовала. Я была как потерянная. В Токио меня, кажется, ещё основательно допрашивали, но я ничего не помню. В свои двенадцать лет я не понимала, о чём они говорят, когда меня спрашивали, как я проводила время с Мицуо. Не знаю, достаточно ли я сделала, чтобы выгородить Мицуо: говорила, что он ничего плохого мне не делал, что я сама с ним пошла, что он был со мной очень добр, что он за всё платил сам, что вообще ни разу не было ничего страшного…