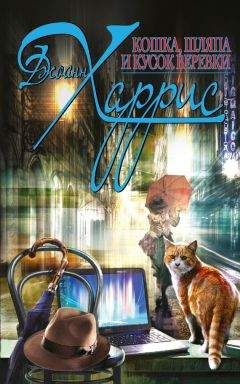Ознакомительная версия.
Откуда, скажите, они узнали о Мерседес? И как они сумели так быстро докопаться до истины в деле Франсуазы Лавери? Интересно, сколько времени им потребуется, чтобы и Зози пала жертвой их безжалостных преследований?
Возможно, пора настала, говорю я себе; видимо, я истощила Париж. Чудеса в сторону — придется избрать иной путь. Но уже не в качестве Зози. Нет, Зози с меня, пожалуй, довольно.
Если кто-то предлагает вам еще одну целую жизнь, неужели вы откажетесь?
Конечно нет.
А если эта жизнь может к тому же дать вам и приключения, и богатство, и ребенка — причем не какого-нибудь, а замечательного, многообещающего, талантливого, еще не тронутого жестокой дланью кармы, которая с утроенной силой воздает всем за каждую дурную мысль, за каждое сомнительное деяние, — и этим ребенком можно будет запросто откупиться от Благочестивых, когда больше уж ничего не останется, неужели вы от этой жизни откажетесь?
Неужели откажетесь?
Конечно же нет!
12 декабря, среда
Ну вот, мы с ней занимаемся чуть больше недели, и, по ее словам, она уже замечает во мне кое-какие перемены. Я теперь знаю о Мексике гораздо больше — разные имена, мифы, магические символы и знаки. И я уже знаю, как поднять ветер с помощью Эекатля, Приносящего Перемены, как вызвать дождь, обратившись к Тлалоку,[49] и даже как заставить Хуракан обрушить месть на головы моих врагов.
Хотя о мести я особенно и не думаю. Шанталь и ее дружки в школу до сих нор не ходят после того случая на автобусной остановке. Очевидно, теперь они все заразились этим. А это, по словам месье Жестена, что-то вроде стригущего лишая; в общем, они должны оставаться дома, пока окончательно не вылечатся, чтобы и остальных не заразить. Просто удивительно, до чего меняется целый класс из тридцати учеников, когда оттуда убирают четверых самых противных! Пока в школе нет Сюзанны, Шанталь, Сандрин и Даниэль, там очень даже неплохо. Никого больше не заставляют вечно водить, никто не смеется над тем, что Матильда такая толстая, а Клод заикается; кстати, сегодня он почти не заикался, когда отвечал на уроке математики.
Честно говоря, с ним поработала я. Клод — очень симпатичный парень, когда познакомишься с ним поближе, просто он так сильно заикается, что старается вообще ни с кем не разговаривать. Но мне удалось незаметно сунуть ему в карман клочок бумаги, на котором я изобразила символ Ягуара, символ мужества, и он сразу стал говорить лучше, хотя, возможно, это просто потому, что той четверки нет в классе.
Клод и держится уже не так напряженно, и сидит прямо, не горбится; заикание у него, конечно, не прошло, но все же сегодня кажется уже не таким сильным. А ведь иногда оно бывает просто ужасным, и невозможно разобрать ни слова, и Клод страшно краснеет, чуть не плачет, и всем становится неловко, даже учителю; и все стараются на него не смотреть (за исключением «Шанталь и компании», разумеется). Сегодня он вообще довольно много разговаривал, во всяком случае, значительно больше, чем обычно.
А еще я сегодня поговорила с нашей толстушкой Матильдой. Она очень застенчивая, говорит совсем мало, носит огромные черные свитера, скрадывающие ее пышные формы, и вообще старается быть незаметной, надеясь, что ее оставят в покое. Только они никогда ее в покое не оставят. Вот она и бродит, печально понурившись, словно боится с кем-то глазами встретиться, и от этого кажется еще более коротконогой, толстой и неуклюжей; и никто не замечает, какая у нее чудесная кожа — в сто раз лучше, чем у прыщавой Шанталь! — какие красивые и густые волосы. В общем, если бы другие к ней относились по-человечески, она могла бы быть очень даже ничего…
— Ты должна попробовать! — уговаривала я ее. — Вот возьми и удиви себя.
— Что попробовать? — в десятый раз уныло переспрашивала Матильда, словно желая сказать: «Зачем ты зря тратишь на меня время?»
И тогда я поведала, ей кое-что из того, о чем рассказывала мне Зози. Она слушала, забыв даже потупиться, и смотрела на меня во все глаза.
— Нет, я на такое не способна! — заявила она.
Но я заметила в ее глазах проблеск надежды, а сегодня утром на автобусной остановке мне показалось, что она уже и выглядит иначе — держится гораздо прямее, увереннее и впервые за все время, что я ее знаю, оделась не в черное. На ней был самый обыкновенный джемпер темно-красного цвета, который нормально сидел, а не висел мешком, и я даже сказала ей: «Как мило! Тебе идет». Матильда немного смутилась, но ей явно было приятно, и она впервые за все это время вошла в школу с улыбкой.
И все-таки странное какое-то ощущение. Вдруг стать… ну не то чтобы популярной, но заметной; заставить людей иначе смотреть на тебя, уметь воздействовать на их восприятие…
Как только мама могла от всего этого отказаться? Жаль, что нельзя ее расспросить, хотя мне и очень хочется! Но тогда придется рассказать ей и о том, как я наказала «Шанталь и компанию», и о деревянных куколках, и о Клоде, и о Матильде, и о Ру, и о Жане-Лу…
Сегодня Жан-Лу впервые пришел в школу после болезни и показался мне очень бледным, но вполне живым и веселым. Оказывается, он просто простудился немного, но сердце у него такое плохое, что любая болячка может оказаться для него делом серьезным. Впрочем, уже сегодня, едва успев вернуться, он опять принялся фотографировать все и вся, уставившись в объектив своей камеры — по-моему, он весь мир видит только сквозь этот объектив. Жан-Лу фотографирует и учителей, и нашего сторожа, и ребят, и меня, конечно. Снимает он очень быстро, так что никто ничего и понять не успевает, и многие на него из-за этого сердятся, особенно девчонки, которым, конечно, хотелось бы сперва прихорошиться, принять выигрышную позу…
— Ага, и весь кадр испортить, — говорит Жан-Лу.
— Почему испортить? — удивляюсь я.
— Потому что камера видит больше, чем обычный невооруженный глаз.
— Она что, и призраков видит?
— И призраков тоже.
Это просто смешно, подумала я. Но в целом он прав. На самом деле он говорит о Дымящемся Зеркале и о том, что оно может показать тебе такое, чего обычно не увидишь. Жан-Лу, разумеется, не знает старинных названий и символов, но он так давно занимается фотографией, что, возможно, сам научился тому трюку, который показывала мне Зози, — умению сосредоточиваться и видеть вещи такими, какими они являются в действительности, а не такими, какими люди хотят их видеть. Именно поэтому Жан-Лу обожает ходить на кладбище: он ищет там вещи, которых простым глазом не разглядеть, — светящихся призраков, истину или еще что-нибудь этакое.
— Ну и как же я, по-твоему, выгляжу в действительности?
Он быстренько пролистал последние снимки и показал мне на дисплее одну фотографию, которую сделал во время большой перемены — я как раз выбегала во двор.
— Я тут немного не в фокусе, по-моему, — привередничала я.
Мои руки и ноги, снятые в движении, занимали почти все пространство, но с лицом было все в порядке — я смеялась.
— Вот это настоящая ты, — сказал Жан-Лу. — Очень красиво получилось.
В общем, я так и не поняла до конца, то ли он важничает, то делает мне комплимент, и решила промолчать, а заодно просмотрела и остальные недавние снимки.
Там, например, была Матильда, толстая и печальная, как всегда, но, несмотря на это, показавшаяся мне почти хорошенькой; и Клод — в те минуты, когда он почти без заикания разговаривал со мной; и месье Жестен с ужасно смешным и совершенно неожиданным выражением лица: казалось, он вовсю старается быть суровым, а сам едва сдерживает веселый смех; а еще я обнаружила там несколько снимков нашей chocolaterie, которые Жан-Лу еще не убрал в память и не стер. Но он почему-то прощелкал их очень быстро, словно не хотел, чтобы я их рассматривала.
— Погоди минутку, — остановила я его, — это ведь, кажется, моя мама, да?
Да, это была она — с Розетт. И мне показалось, что она очень постарела. А Розетт в самый неподходящий момент отвернулась, и рассмотреть ее лицо как следует было невозможно. А потом я заметила рядом с ними Зози — но какую-то очень странную, совсем на себя не похожую: уголки рта скорбно опущены, в глазах какое-то непонятное выражение…
— Пошли! Мы опоздаем! — сказал Жан-Лу.
И мы бегом бросились к автобусу, а потом, как всегда, заглянули на кладбище — покормить кошек и немного побродить по аллеям под деревьями, с которых опадали последние бурые листочки. Там не было ни души, одни призраки.
Уже темнело, и мрачные силуэты надгробий смутно вырисовывались на фоне сумеречного неба. Не слишком удачное время для фотографирования — если, конечно, не пользуешься вспышкой, которую Жан-Лу называет дурацкой, — но все равно там было очень здорово, необычно, и так красиво выглядела рождественская иллюминация чуть дальше, на Холме, и цветные огоньки сливались с россыпью звезд, уже загоравшихся на небе.
Ознакомительная версия.