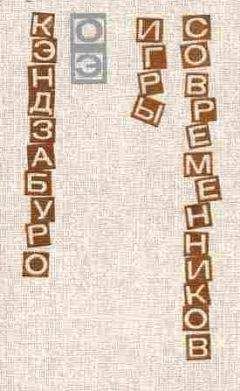Отвлекшись от своей боли, я огляделся и увидел не менее десяти больных с провожатыми, молча набившихся за это время в недавно еще пустую приемную. Странные, грубые усмешки, сопровождавшие каждый крик первой пациентки, которые появлялись на смуглых, будто закопченных лицах всех этих людей, свидетельствовали о том, что клиентура у зубного врача была не самая изысканная.
Рассматривая мексиканцев, заполнивших приемную, я сначала не обратил внимания на появление нового посетителя. Погруженный в свои мысли, я вдруг насторожился, почувствовав, что меня кто-то разглядывает, а этот невысокого роста крепкий человек уже приближался ко мне. Лет пятидесяти, но необыкновенно подвижный, он шел, громко стуча каблуками и расталкивая столпившихся в приемной людей. Крепко взяв меня под локоть – для человека, страдающего от зубной боли, его походка была слишком уж энергичной, – он стал пробираться со мной сквозь толпу. Густые усы, крупные черты лица, которые так соответствовали его большой голове, – весь облик выдавал в нем человека умственного труда. Наверное, сестренка, ведя меня за руку по приемной, он прежде всего заботился о том, как бы поскорее избавить меня от мучений. До этого момента я испытывал острую жалость к себе, а тут вдруг почувствовал всю комичность ситуации: незнакомый человек берет меня за руку, и я послушно следую за ним, расталкивая мексиканцев. Наконец мы с усатым мужчиной оказались у стеклянной двери, которую сестра-метиска приоткрыла, чтобы вызвать следующего пациента. Не спрашивая моего согласия, мужчина обнял меня за плечи и втолкнул в кабинет. Я увидел перед собой старомодное зубоврачебное кресло – такие же еще в детстве я видел в нашей деревне. Стоявший возле кресла невысокий мексиканец японского происхождения в белом халате протестующе дернулся, точно у него был нервный тик. Симпатичный на вид врач с круглой, похожей на воробьиную, напомаженной головой, как потом оказалось, не собирался категорически мне отказывать. Робко выражая свое недовольство, он посмотрел на часы: времени мало, а у него запись – кажется, пробормотал он тихо по-испански. Обнаруживая при этом буквально детское неприятие реальности, он обращался к сестре-метиске, которая виновато смотрела на него – мол, мой недосмотр.
Во время этой сцены усатый мужчина, проявив истинное великодушие, чуть ли не насильно усадил меня в кресло. Врач был, по-видимому, человеком, неспособным достаточно энергично возражать против таких действий, не говоря уж о том, чтобы решительно воспротивиться им. В конце концов он смирился и приступил к лечению моего зуба, сморщив нос и выражая этим свое неудовольствие сестрой-метиской. Теперь, вместо невнятного бормотания по-испански, он перешел на японский язык.
– Откройте рот.
Положив на больной зуб сиреневую прямоугольную бумажку, так же коротко бросил:
– Закройте.
Плотно стиснуть челюсти не удавалось. Бумага, проложенная между верхними и нижними зубами, несколько смягчала ощущения, но боль все равно отдавалась в темени.
– Откройте еще раз.
Тут он вдруг заинтересовался моими зубами и, покачав головой, заглянул мне глубоко в рот. Потом взял какой-то металлический инструмент.
– Болит? – Он ударил по зубу.
Я не могу утверждать, что и до этого события развивались логично. Однако, сестренка, это уже был буквально потрясающий взрыв непоследовательности. По нерву будто ударила камнедробилка. Ой! – завопил я, и мой крик был так неожидан, что врач отскочил в сторону. Тут же взяв себя в руки, он снова приблизился ко мне, но меня словно оглушили и ослепили одновременно: я не только не мог разобрать его слов, но и его лицо, похожее на мордочку колонка, видел точно сквозь туман. Мне помогли подняться с кресла, и я повалился на стоявший рядом диван. Чувств, правда, не лишился, но между моим сознанием и внешним миром легла пелена, как та сиреневая бумажка, которую врач клал на мой зуб. Продолжалось это долго – все то время, пока лечили севшего в кресло после меня усатого мужчину, а потом он обнял меня за плечи, и я, словно во сне, шагая по обволакивающему облаку боли, пересек приемную и вместе с ним спустился на лифте. Так, сестренка, помимо собственной воли я получил нечто такое, чем обычная жизнь нас не балует. Я имею в виду, что незнакомый человек в чужой стране пришел мне на выручку, мало того – заплатил не только за мое лечение, но и за прописанное врачом лекарство, которое он купил для меня в аптеке на первом этаже. Полностью подчинившись ему, я покорно пошел за ним в бар, находившийся в глубине фирменного магазина «Санборн». Ссутулившись, я долго сидел там, неотрывно глядя на то, как по стакану, расширяющемуся кверху, стекают капельки воды, как они мутнеют от крупинок соли на краю, пока постепенно не начал возвращаться к действительности.
Сквозь прозрачную жидкость, чуть поблескивающую в стакане – теперь было ясно, что это «Маргарита», – я увидел обращенную ко мне забавную физиономию. Усатый человек на глазах обретал реальность. Я наконец отвлекся от его густых усов, которые только и определяли его в моем сознании, и по-новому взглянул на его немного вытаращенные от боли и возбуждения огромные глаза под выпуклым, как панцирь черепахи, лбом, и для меня сразу же обрело смысл имя, которое выкрикнула в приемной сестра-метиска, перед тем как мы вошли в кабинет врача. Я припомнил, как она назвала его. Сеньор Карлос Лама.
Если это тот самый Карлос Лама, художник и историк искусств, выходец из Колумбии, эмигрировавший в Мексику, то я должен его знать – как-никак коллега по университету. Скорее всего, познакомились мы случайно, на приеме симпозиума, когда в толчее не разберешь, с кем общаешься. И все же его усы, как мне помнится, выглядели иначе. Я стал приглядываться к Карлосу Ламе внимательней и понял, что щека на его бульдожьем лице вспухла, поэтому усы стояли торчком. Догадавшись, что я наконец узнал его, он лукаво сверкнул глазами. Усы Карлоса, несмотря на то, что щека вспухла и отвердела как камень, зашевелились, полные губы произнесли по-английски:
– Local, bat not local color...[5]
Карлос Лама шутил не только над своим английским, но и над английским как таковым, и его нисколько не интересовало, имеют ли вообще эти странные слова какой-либо смысл. Водя одной рукой перед толстым, точно расплющенным носом, другой он протянул мне стакан с «Маргаритой». Я послушался и залпом отпил половину. Зуб болел по-прежнему, но вкус лимона и соли, кажется, взбодрил меня. И я сразу же понял, что хотел сказать Карлос на неродном ему языке. Он хотел сказать, что если уместно употребить прилагательное local, то только не в сочетании local color – «местный колорит». Предлагая выпить, он имел, наверное, в виду local anaesthetic, то есть «местную анестезию». Я отпил еще немного, а Карлос осушил стакан до дна и языком слизнул с губ крупинки соли. Следующий стакан, тут же принесенный пожилым, но необыкновенно проворным официантом, Карлос пропустил в себя одним духом, и я тоже, вздрагивая каждый раз, когда жидкость касалась больной десны, допил свой коктейль, а вслед за ним и второй. Потом еще и еще раз. Видимо, исходя из дневной нормы выпивки Карлоса, который был постоянным посетителем этого бара, для него уже заранее было приготовлено нужное количество стаканов с основными компонентами для «Маргариты», оставалось только долить воду.
По мере того как я пьянел, начало действовать и болеутоляющее, выпитое мной под «Маргариту», и я ждал, что вот-вот боль, мучившая меня чуть ли не сто часов, отступит хотя бы ненадолго. Изо всех сил стараясь заглушить боль, словно обезьяна вцепившуюся в челюсть, я ни на минуту не переставал сознавать, в каком ужасном состоянии мой зуб и десна, но уже предчувствовал, что пройдет еще совсем немного времени, и исчезнет не только боль, но и сознание, что вообще существуют зубы и десны. Видимо, «Маргарита» вместе с болеутоляющим подействовала и на Карлоса, но опьянение вызвало у него не апатию, как у многих, а мощный прилив энергии. Пока что, привалившись ко мне грузным телом, он наклонил свою огромную голову и ждал, что я скажу. Но, как это ни печально, я произнес по-испански, сестренка, одну-единственную фразу, хотя и вложил в нее всю свою душу:
– Gracias, Carlos![6]
И тогда, ободренный моей благодарностью, Карлос отбросил всякую сдержанность, почувствовал себя свободно и заговорил, энергично жестикулируя. Говорил он не по-испански. Но его английский, сестренка, – до этого он звучал холодно и бесстрастно – был теперь воплощением бьющей через край энергии. Именно английская речь придавала словам, клокочущим в душе этого художника и искусствоведа, некую силу, удивительным образом сплетавшую их воедино. Человек, родной язык которого в далеком прошлом был растоптан испанским, кровь предков которого смешалась с кровью испанцев, говорит на языке североамериканцев, хотя именно благодаря им в Колумбии создалось такое положение, что он был вынужден переселиться в Мексику, – ведь если он возвратится на родину, его обязательно убьют. Я не могу не передать тебе, в самых общих чертах хотя бы, смысл слов Карлоса, которые имеют прямое отношение к моему повествованию. Ты, сестренка, наверное, спросишь: так ли необходимо все, что я тебе рассказываю, для описания мифов и преданий нашего края? Но я, глядя на твою фотографию, пишу все, что приходит мне в голову. И мне представляется, что это и есть единственно правильный метод описания мифов и преданий нашего края.