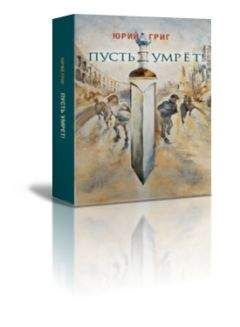– Понимаю – ты хищник, Боб!
С этими словами Максимов со стуком поставил перед Квинтом тарелку со спорным, но не перестающим от этого быть эстетически и гастрономически привлекательным бифштексом, и заметил в заключение:
– Но я согласен... Ничего не поделаешь – хищники не рыдают над несчастной жертвой, тем более, когда собираются ее сожрать.
И оба, стремясь перебороть минутную слабость, едва не сломившую их закаленный дух, с аппетитом вонзили зубы в умопомрачительно вкусную, несмотря ни на какие угрызения совести, жареную плоть.
Когда с вопросом «Быть или не быть вегетарианству?» разобрались таким натуральным и убедительным способом, Квинт, помнится, стал возмущаться беспринципностью коллег Максимова по журцеху:
– Все они проститутки! Вся твоя пресса заболела желтухой, – кричал он. – Ты не находишь, Алик, а? Ты мне скажи, вам что, всё равно кто платит?
– Нельзя быть таким непримиримым, Боб. Где твоя толерантность? Просто некоторые... ну, как бы никак не могут определиться со своей «сексуальной» ориентацией, а когда определятся, тогда и будет, как в других нехороших странах. По-думать только, двести лет подряд отстаивать одни и те же принципы. Скучно, ей богу, блин!
– «Ей богу» и «блин» не идут в одной упряжке, Алик. Это еще Чингиз Айтматов говорил.
– Это он про водку и айран. Как раз наоборот – идут!
– Водка и айран идут, а «ей богу» и «блин» – нет, – настаивал на своем Квинт.
– Пусть так. Я тебе лучше секрет открою: в наше турбулентное время нужно правильно отслеживать момент. Конечно, не возбраняется пользоваться честно заработанным авторитетом в журналистской среде. Но посылать свои материалы нужно исключительно в те масс-медиа, которые в данный момент наиболее близки по духу. Просекаешь?
– А мне-то что сечь? Ты газетчик – сам и секи.
– Что я и делаю! Гарантированного заработка нет, но такое свободное плавание мне больше по душе.
Они потягивали пиво, Квинт тыкал пальцем в телевизионный пульт. Каналы переключались, не оставляя ни малейшей надежды на разумный контент. Максимов плевался и просил выключить зомби-ящик. Квинт тоже плевался, но телевизор не выключал, считая его хоть и кривым, но зеркалом, в котором, несмотря на серьезные искажения, надо учиться видеть правильно.
— Задача ученых, Алик, – сказал он, – изобрести специальные очки. Человек надевает их и включает телевизор или читает газету и... Представляешь! Вместо вранья видит правду.
— Ты мечтатель, Боб. Таких очков быть не может.
— Почему бы нет?
— Невозможно в принципе. Дело в том, что девяносто во¬семь человек из ста видят то, что хотят увидеть. И лишь немногие без всяких очков...
— Ты имеешь в виду эти двое...?
— Ты не по годам смышлен, Боб, – успокоил его Максимов, – совершенно верно: эти двое – мы с тобой.
— У-ух, ты меня напугал, – выдохнул Квинт с облегчением. – То есть нам такие очки не нужны? Я правильно понял?
— Правильно! К примеру: видишь того смешного человека?
—Где?
— А в ящике, – кивнул Максимов.
— Вижу. Дальше что?
— Попытайся догадаться, что он имеет в виду.
— Ну... он это... – состроив брови домиком и не забыв при этом сделать добрый глоток, нерешительно отвечал Квинт, – врет посредством телевидения, что располагает сведениями о том, как нам жить. Он считает, что посвящен кем-то свыше в некую тайну, недоступную простым смертным… Правильно?
— Правильно! Ты продолжай, Боря, продолжай. Видишь, тебе уже, пожалуй, никакие очки и не нужны.
— Учит нас с тобой, а заодно и всех остальных граждан тому, что необходимо сделать, чтобы все без исключения стали счастливыми, представляешь! Просто он, клинический идиот, не понимает, что количество счастья на планете – величина постоянная. Ergo! – с этими словами Квинт победно поднял вверх указательный палец левой руки, поскольку правая была занята бокалом с любимым «классическим». – Если есть счастливые, то кто-нибудь обязательно должен быть и несчастным. То есть счастье в мире только перераспределяется.
— Неплохо, старик, очень неплохо! Теперь я за тебя спокоен, – с одобрением подытожил Максимов.
— Ты всегда был идеалистом, старик, – добродушным тоном изрек Квинт. – Всю жизнь борешься за правду и справедливость. То есть за то, чего нет.
— А здесь ты не совсем прав, старик, я борюсь со злом во всех его проявлениях. Оно конкретнее, согласись, его легче нащупать. А правда и справедливость – понятия условные и у каждого свои, – возразил Максимов и в очередной раз напомнил другу об истоках своей жизненной позиции: – Не забудь, когда я начинал эту борьбу в тот, первый раз, я испытал горечь поражения.
— Как же помню, помню... Но это, ведь, не остановило тебя. В твоем возрасте пора понять, что зло невозможно искоренить. Как и добро – его можно только перераспределить. Ну... переместить из одного места в другое. Знаешь, это как перелить жидкость из одного сосуда в другой, осторожненько унести, схоронить где-нибудь в укромном месте, пока само не распадется, как радиоактивная дрянь, если только какой-нибудь псих не доберется и не разольет прежде времени.
— Ты имеешь в виду, зло от этого не исчезнет? – в вопросе Максимова послышались искренние интонации, присущие только пьяному человеку, ибо только нетрезвый мог в этом усомниться.
— Именно это я и имею в виду! – провозгласил Квинт.
В миру Боря Квинт был художником. И надо отметить – неплохим. Однако на жизнь, как и все настоящие художники, которых по его собственному выражению «современники оценить не способны», он зарабатывал иным способом.
Последним его хитом были картины в стиле, который он называл туманно – укиё-э, что по-японски означало «уплывающий мир» или нечто в этом роде. Друзья же, и в первую очередь Максимов, далекие от модных восточных экстравагантных экзерсисов, предпочитали фонетически более близкую к родной речи форму: «Водолей». Как признавался сам Боб, стиль этот одинаково подходил как тем, кто рисовать умел, так и тем, – этих, сдается, было подавляющее большинство – кто не умел. Судите сами, картина располагается за стеклом, по которому стекают струи воды, бесшумно подаваемой неутомимым миниатюрным насосом в тонюсенькую трубку с множеством отверстий в верхней части рамы. Изображение становилось расплывчатым и даже слегка колышущимся, подобно пейзажу, который можно наблюдать из окна в сильный дождь.
Неожиданно даже для самого Квинта его «водолейные» работы завоевали популярность и неплохо шли в определенных кругах. Сам же автор насилу сохранял серьезность, когда ему приходилось расплываться мыслью по древу, открывая богатым остолопам глаза на скрытый смысл, якобы заложенный в его произведения. Правда, будучи от природы человеком честным, Квинт каялся в грехе.
«Алик, я стал замечать, что чем больше я вру, тем сильнее начинаю верить сам в то, что несу, – сознавался он Максимову в порыве откровенности, но тотчас же, в свое оправдание, заявлял: – Я не одинок – история знает тьму подобных примеров. Возьмем, авангардистов – кубистов, в частности… Им что, можно дурачить людей? Конечно бездонный «Черный квадрат» уже создан – Малевич поставил жирную точку на этом направлении. Но разберемся – остановило ли это кого-нибудь? Напротив, он дал начало супрематизму. Скажу тебе по секрету, старик: мой жанр – это синтез беспредметной живописи с предметной. В этом смысле он объединяет замысел рафинированного супрематиста с гиперреализмом. И… я не виноват, что людям нравится».
Заканчивал он обычно прагматично: скромный заработок от этого промысла обеспечивает материальную основу для занятий настоящей живописью. И вообще – каждый художник имеет полное право зарабатывать на жизнь всеми доступными ему выразительными средствами. Не прозябать же в нищете.
Словом, поймав, если не всю целиком, то хотя бы перо жар-птицы, Боб трудился не покладая рук.
Но в свободное от работы время он всё же предпочитал пофилософствовать со своим другом на злободневные темы.
— Как ты думаешь, Алик, а у предметов бывает вторая жизнь? – спросил он в тот вечер, рассматривая свой бокал на просвет.
— Бывает, – не вполне уверенно ответил Максимов.
— Тогда ты должен помнить, что перевоплощению в более совершенную форму, как учил Гаутама, мудрец из рода сакьев, удостаиваются лишь те субъекты… я, конечно, произвольно, распространяю данное правило и на объекты… поведение которых в предыдущем воплощении было примерным.
— И что из этого следует?
— Из этого следует… в общем, что-то не так. Ты же прекрасно знаешь – в прошлой жизни это великолепное пиво было ослиной мочой.
— Боб, меня больше беспокоит другое... во всяком случае больше, чем твои вопросы о происхождении пива, – задумчиво промолвил Максимов.