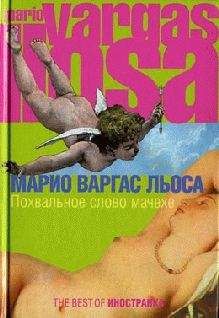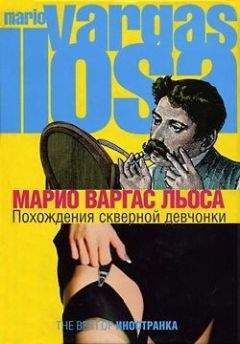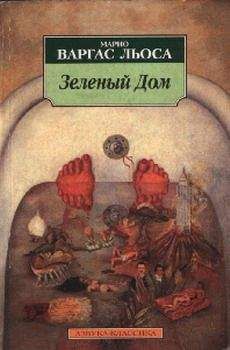"Безупречность твоего тела до срока сделала для него внятным язык любви, – философствовала Юстиниана, пересказав мне этот случай. – Твоя красота приковала его к месту, как приковывает птичку взгляд змеи. Сжалься над ним, Диана-Лукреция. Почему бы этому пастушку не принять участие в наших играх?
Мы потешим его и потешимся сами".
Так мы и поступили. Юстиниана в той же мере, что и я, а быть может, и еще щедрее, одарена от природы способностью искать и находить наслаждение и никогда не ошибается в том, что может подарить его. И эта ее способность мне милей даже, чем стройная крутизна ее бедер и чем шелковистая поросль на лобке, которая приходится мне так по вкусу: более всего остального люблю я стремительность ее выдумки, безошибочность ее чутья, отыскивающего в нашем бурном мире источники все нового и нового наслаждения.
С той поры мы допустили его к нашим забавам, и, хоть минуло уже немало дней, игра все никак не наскучит нам, не приестся и не надоест. Каждый следующий день веселит нас сильней предыдущего, сообщая нашему бытию прелесть новизны.
Но Фонсин, прекрасный, как юное божество, наделен и очаровательным свойством души: он очень робок. Дважды или трижды пробовала я приблизиться и заговорить с ним, и всякий раз – тщетно: побледнев, он, словно вспугнутый олень, уносится прочь, исчезая, как по волшебству, в переплетении ветвей. Однажды он проговорился Юстиниане, что одна лишь мысль о том, что я взгляну в его глаза и обращусь к нему, а он не то что прикоснется ко мне, но хотя бы окажется подле меня, приводит его в полнейшее смятение. "Твоя госпожа неприкосновенна, – пролепетал он, – я знаю, что стоит мне подойти ближе, ее красота испепелит меня, подобно тому, как сжигает бабочку зной аравийской пустыни".
И потому мы устраиваем наши игры как бы потихоньку от него. Разнообразя наши прихотливые затеи, начинаем мы некое действо, похожее на восхищающие чувствительных эллинов трагедии, в которых вместе и наравне страдают и губят друг друга люди и боги. Юстиниана, притворяясь, что она в заговоре с ним, а не со мной – на самом же деле подыгрывает она обоим, а более всего – самой себе, – прячет пастушка где-нибудь неподалеку от того грота, где я намереваюсь провести ночь, и в красноватом свечении жаровни раздевает меня, умащает меня благовонным медом сицилийских пчел. Это лакедемонийское снадобье не только делает кожу свежей и гладкой, но и пробуждает желание. Я закрываю глаза, а моя служанка и возлюбленная растирает и разминает мои члены, открывая их взору моего целомудренного обожателя. И когда по моему трепещущему под ее искусными пальцами телу проходит череда коротких сладостных судорог, я угадываю присутствие Фонсина. Я его вижу, я вдыхаю его запах, я ласкаю его, я прижимаю его к себе и прячу внутри себя – и при этом мне нет нужды прикасаться к нему. И стократ сильней мое наслаждение оттого, что он делит его со мной. И блаженство мое проникнуто кроткой нежностью, ибо я ощущаю, что он, хрупкий, невинный, блистающий от пота, созерцает меня и счастлив этим созерцанием.
И вот, спрятанный от моих глаз Юстинианой, пастушок видит, как засыпаю я и пробуждаюсь поутру, видит, как мечу я копье и спускаю тетиву, как одеваюсь и сбрасываю одежды, видит, как, присев на корточки на двух камнях, пускаю я золотистую струйку в прозрачный поток, из которого он тотчас поспешит напиться, став ниже по течению. Видит он, как отсекаю я головы гусакам и ощипываю голубок, чтобы принести их кровь в жертву богам, а по внутренностям узнать неведомое будущее. Видит он, как ласкаю и услаждаю себя я сама, видит, как ласкаю я Юстиниану, видит и то, как мы с нею, погрузившись в воды ручья, пьем сверкающую влагу водопада из уст друг друга, пробуя на вкус нашу слюну, потаенные соки наших тел. Нет такой разнузданной прихоти или ритуального обряда, рожденных телесным влечением или душевной склонностью, которого мы не показали бы ему, которого не увидел бы из своего укрытия он, щедро взысканный обладатель нашей близости. Он наша игрушка, но и наш повелитель. Он служит нам, но и мы служим ему. Не прикоснувшись друг к другу, не обменявшись ни единым словом, бессчетное множество раз дарили мы друг другу наслаждение, и правда требует признать, что та неодолимая пропасть, которая существует между сельским пастушком и бессмертной богиней, не мешает нам слиться теснее, чем чете самых страстных любовников.
Вот сейчас, в это самое мгновение, Юстиниана и я, Диана-Лукреция, начнем наше действо для него, а он, всего лишь стоя между валуном и рощей, начнет свое – для нас.
Совсем скоро эта вечная неподвижность оживет, сделается временем и историей. Залают псы, зашелестит листва, зажурчит и запоет по камням ручей, поплывут к востоку облака, гонимые тем же игривым ветерком, что растрепал кудри моей любимицы. Она тоже оживет, наклонится ко мне, прикоснется алыми устами к моей стопе и начнет сосать каждый мой палец, как посасывают ломтик лимона душным летним вечером. Совсем скоро переплетем мы тела, резвясь на посвистывающем шелку синей подстилки, охмелев от полноты бытия. Легавые псы будут бродить вокруг, обдавая нас жарким дыханием жадных пастей и в возбуждении норовя лизнуть нас. Лес услышит замирающий лепет и внезапный крик – крик раненного насмерть, а еще мгновение спустя – смех и бессвязные веселые восклицания и увидит, как мы, по-прежнему не размыкая объятий, погрузимся в мирную дремоту.
И может быть, свидетель наших забав, увидев, что мы стали пленницами Морфея, с бесконечными предосторожностями, чтобы звук его легких шагов не достиг нашего слуха и не разбудил нас, покинет свое укрытие, подойдет поближе, чтобы глядеть на нас с края голубого покрывала.
Так будет стоять он, так будем лежать мы, снова сделавшись неподвижными в это мгновение вечности, – но не такой, как на холсте. Бледнолобый и пурпурнощёкий, будет стоять над нами Фонсин с расширенными в благодарном изумлении глазами, и с угла нежных губ потянется ниточка слюны. Мы же, сплетенные и прекрасные, будем дышать ровно и в такт друг другу, и на лицах наших застынет довольное выражение женщин, умеющих быть счастливыми. И все трое кротко и терпеливо будем мы ждать грядущего художника, который, подстегнутый желанием, запечатлеет нас на полотне, полагая, наверное, что сам нас и придумал.
6. Омовения дона Ригоберто
Дон Ригоберто вошел в ванную, запер дверь и вздохнул. Мгновенно охватило его душу приятнейшее, отрадное чувство освобождения и радостного ожидания. Эти полчаса в одиночестве даруют ему счастье. Каждый вечер он бывал счастлив – когда больше, когда меньше, но этот выверенный до мелочей обряд, который он неукоснительно исполнял уже на протяжении многих лет, неустанно шлифуя и совершенствуя его, как художник, снова и снова возвращающийся к главному своему произведению, неизменно оказывал на него колдовское действие: вселял покой, примирял с ближним, возвращал молодость, бодрил. Каждый раз дон Ригоберто выходил из ванной комнаты с ощущением, что, как бы там ни было, жить на свете все-таки стоит. И потому не переставал радоваться этому получасу с тех самых пор – а когда же это было? – как он открыл в себе способность превращать то, что для абсолютного большинства смертных было лишь зауряднейшими процедурами, которые они производили с бесчувственностью машин – чистить зубы, скажем, или полоскать рот, – в возвышенное и изысканное таинство, превращавшее его – пусть ненадолго – в совершенное существо.
С младых ногтей дон Ригоберто был активнейшим участником "Католического действия" и мечтал преобразовать мир. Однако довольно скоро понял, что эта идея, подобно всем коллективным, – не более чем несбыточная мечта и воплотиться в жизнь не может, и с присущим ему практицизмом решил не тратить время на битвы, которые рано или поздно все равно будут проиграны. Тогда осенила его догадка: если идеальное совершенство и возможно, то лишь для отдельно взятой личности и должно быть строго ограничено в пространстве (чистоплотность, к примеру, или секс) и во времени (тому и другому должно уделять время перед сном).
Он снял халат, повесил его за дверью и голый, в одних комнатных туфлях, уселся на унитаз, отделенный от остальной части туалета лакированной ширмой с изображением небесно-голубых танцующих фигурок. Его желудок действовал с точностью швейцарских часов, полностью и без усилий опорожняясь именно в эти часы и как бы радуясь возможности освободиться от всякого рода дневной докуки. С тех пор, как было принято самое тайное в его жизни решение – надо полагать, даже донья Лукреция не знала о том, что ее муж, решив становиться безупречно совершенным на краткие полчаса каждого дня, разработал эту церемонию, – ни разу не страдал он от мучительных запоров или изнурительных поносов.
Дон Ригоберто полузакрыл глаза и слегка натужился. Этого было вполне достаточно: он сейчас же ощутил приятное щекотание в прямой кишке, и ему показалось, будто там, в недрах его организма, что-то послушно двинулось к предупредительно открытому выходу. И задний проход в свою очередь уже начал растягиваться, заранее готовясь извергнуть извергаемое и тотчас сомкнуться, шутливо хмурясь всеми своими бесчисленными морщинками и как бы говоря: "Проваливай, какашка, и больше не возвращайся".