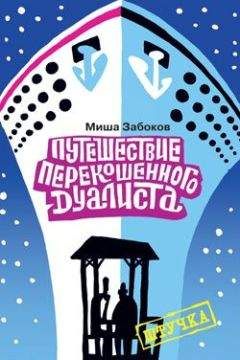Толян вызывающе, с горькой иронией посмотрел на меня. В эту секунду в его печальном взгляде сквозила такая бесшабашная открытость, в какой угадывался гораздо больший смысл, нежели в словах, произнесенных им затем:
— Так я уж и собрал и, понятное дело, сократил. Взял тряпку и собрал: подтер лужицу на полу, выжал хорошенько в миску да и вмазал. Только в энтот раз уж боле ни на что не отвлекался.
На какое-то время я потерял контакт с Толяном, целиком погрузившимся, как это часто с ним бывало, в свой собственный, обособленный мир, в котором царили тишина и одиночество. Его физическое местонахождение не подвергалось в данный момент никакому сомнению, а вот присутствие его беспокойного духа — ничем не подтверждалось. Он лишь чуть скривил уголок рта и в мрачной задумчивости уперся отчужденным, потухшим взором в зеленый молоднячок, что так картинно разместился прямо в центре лужайки, но не остановился на нем, а продырявил его насквозь, наткнулся на ствол высокой березы, скользнул по ее белой с черными ободками коре, не задерживаясь на кроне, к самой верхушке, и уже оттуда, не имея перед собой никаких дополнительных преград, вознесся в свободном полете над крышами изб, торчавшими над ними антеннами, над лесом и неудержимо устремился ввысь, в далекие горизонты открывшегося перед ним холодного и бесконечного пространства. Сейчас Толян был так далеко, что если бы я вдруг попросил его спуститься на землю, чтобы в прощальном ритуале разделить со мной рюмашку на посошок, скорее всего он просто бы не расслышал моей нижайшей просьбы. Сумев за эти короткие мгновения заглянуть в пустоту и намаявшись слоняться по ее необитаемым далям, душа Толяна вновь воссоединилась с телом: еще секунду назад направленный в никуда скорбный взгляд Толяна снова ожил, хоть и остался столь же кротким. Он еще немного посидел, потом крякнул, шлепнул себя по коленкам, поднялся, поправил кепарь, сказал напоследок: «Ну такты, Мишка, приезжай всё ж-таки зимой, уж постарайся, авось, еще не околею», крепко пожал мне руку и с угрюмым видом побрел к калитке.
Я смотрел ему вслед, порываясь окликнуть его, сказать что-нибудь ободряющее, как-то утешить, ну хоть просто помахать рукой на прощание, но меня будто заклинило и перекосило. Всё, на что я был способен, так это неотрывно и пристально смотреть ему в спину, видеть его покатые плечи, седой затылок и понуро удалявшуюся невзрачную фигуру, в беззвучной поступи которой громким эхом до меня доносилась невысказанная, потаенная, щемящая, беспредельная тоска, — соратница грусти и печали, недобрая предвестница известного и неизбежного конца. Я, как истукан, наблюдал за ним, пока он медленно пересекал участок, направляясь к калитке. И лишь когда он оказался рядом с забором, я наконец вышел из ступора и заорал как припадочный: «Т-о-л-я-н! Мы еще построим с тобой беседку!»
Этот остервенелый крик души, вобравший в себя всю мою ненависть к смерти, весь запас еще не растраченных надежд, тотчас же отозвался хорошо знакомой мне с недавних пор тупой, сдавливающей болью, быстро расползавшейся от диафрагмы к горлу и зримо принимавшей облик жирной, склизкой жабы. Зеленая болотная тварь, примостившаяся где-то за грудиной, противно склабилась, обнажая прокуренные зубы, раздувала свой отвислый зоб, пузырилась едкой слюной, а потом вдруг она и вовсе разинула пасть и расхохоталась мне прямо в лицо, и уже после, отдышавшись от смеха, проверещала гнусавым механическим фальцетом: «Ну, ты и уморил меня, дорогуша. Давненько я от тебя не слышала столь безапелляционных, а главное — безответственных заявлений. Беседкой он, видите ли, загорелся! И охота тебе понапрасну людям голову морочить!» Пристыженный таким убийственным саморазоблачением, я застенчиво переминался с ноги на ногу, смущенно хлопал глазами и глупо лыбился, с сожалением обнаруживая в себе сходство с крикливым и напыщенным пустозвоном, которого позорным образом приперли к стенке, поймав на враках.
Толян круто обернулся, как будто только и дожидался того, чтобы услышать от меня нечто подобное, и мне показалось — нет, я был абсолютно уверен, я это точно знал, — что брошенные мною слова достигли цели, ибо в тот момент, когда он повернулся ко мне лицом, я тут же ощутил исходившие от него горячие флюиды магнетической энергии, настолько горячие, что мне даже пришлось отпрянуть на шаг назад, и с этим телепатическим потоком был адресован мне такой сгусток шального жизнелюбия, такой заряд фанатичной убежденности в никчемности смерти, который нещадно корежил мои незатейливые слова, наделял их уже принципиально новым, качественно иным содержанием, безмерно раздвигавшим узкие рамки краткосрочной перспективы строительства какой-то жалкой беседки, привносил в них уже поистине глобальный, я бы сказал, планетарный подтекст, суть которого сводилась к одной простой и ясной мысли, заставившей меня буквально остолбенеть и покрыться мурашками, — мысли, такой трудно воплощаемой на практике, но охотно принимаемой на веру, о нашем с Толяном бессмертии, о том, что сколько бы костлявая ни бесновалась, ни злобствовала, ей от нас ничего не обломится, мы всё равно устоим, и теперь уже только назло ей — мы нарочно с ним не умрем никогда. А чтобы донести до нее и до меня эту очевидную мысль во всей ее первозданной свежести, в неискаженном виде, так сказать, в виде сухого остатка, кристаллизовавшегося из череды промелькнувших в воображении Толяна разрозненных образов, и вместе с тем придать ей выверенную монументальную форму, которая неразлучными двойниками-перевертышами, как красочные фигуры на игральной карте, как негатив и позитив, как объект и его зеркальное отражение, как отрицание и утверждение, могла бы выразить немой протест против рабской покорности, угодливо заискивающей перед потусторонней бессмыслицей, и одновременно воспеть торжественную осанну вечной жизни, залог которой, как водится, дается таинством святого причащения, — он с хулиганской усмешкой сопроводил осенившее его на пути от бани до калитки прозрение следующим жестом: бросил левую руку на локтевой сгиб другой руки, плотно сжал пальцы обеих рук в кулак и резко передернул правой рукой от предплечья кверху. Так, ни разу не шелохнувшись, он стоял до тех пор, пока бесхвостая бородавчатая тварь не убралась прочь в свое болото.
2001 г.
Путешествие перекошенного дуалиста Высокохудожественное, умеренно философское эссе в одиннадцати главах
Ощущение праздника возникло задолго до начала самого круиза. Еще в самолете я почувствовал устойчивую перемену настроения. Хотя это был рейс «Аэрофлота», мало чем по сути отличающийся от явления одного с ним порядка, что пассажиры городского и пригородного транспорта именуют назидательным оборотом «не нравится — езжай в такси», а любители отдыха вблизи Весьегонска — как название пассажирского поезда Москва — Рыбинск, которому за время моего следования в глухую деревню Тверской области для ежегодной заготовки закусона к праздничному столу еще предстояло пройти двойное переформирование состава, сначала в Сонково, а потом в Овинищах, — впрочем, к чему эта разноголосица мнений в зависимости от размаха неудобств и вида транспорта, если в России все пассажирские транспортные средства служат лишь одной цели — в обстановке, максимально приближенной к боевой, доставить рано или поздно пассажира из пункта А в пункт Б, но отнюдь не обеспечить ему временное и комфортное проживание, организованный досуг и передвижение в избранном направлении, — тем не менее, при всем своем старании нашему авиаперевозчику так и не удалось испортить мне настроение.
Глядя в иллюминатор на ночной Лиссабон, я казался себе зрителем, что с высоты балкона, нависающего над театральным помостом, наблюдает за тем, как внизу разворачивается феерия из оперетты «Цирк зажигает огни»: береговая линия, улицы, магазины, памятники, парки, фонтаны, движущиеся автомашины — всё светилось, подсвечивалось, зажигалось и гасло, снова загоралось, переливалось огнями, светофорило… Самолет в очередной раз заложил крутой вираж — по-видимому, наземные службы аэропорта изо всех сил стремились отсрочить неотвратимость нашей посадки, против которой восставало всё их либерально-демократическое естество, — и картинки волшебной оперетты заново ярко ожили под нами. Представлялось, будто мы сами, не успев как следует насладиться сказочным действом, возгласами «бис» вновь заставили пилотов выйти на поклон, чтобы повторно исполнить полюбившуюся нам арию мистера Икса — «Снова туда, где море огней…» Понятно, что в этот момент настоящие ценители опереточного искусства рассмеются мне прямо в лицо и с криками: «Какое бескультурье! Это же надо — перепутать Милютина с самим Кальманом!..» — понесутся сломя голову в филармонию, дабы вернуть оскверненному моим невежеством слуху былую чистоту восприятия музыкальной гармонии. И сколько бы я ни кричал им вдогонку: «Да погодите, я не перепутал, ведь мы же развернулись на бреющем полете, а это — уже совсем другая оперетта», — все было бы напрасно. Их уже не остановить!