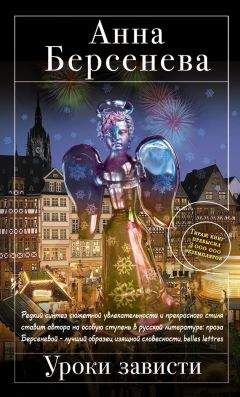— Не надо так про Любовь Андреевну, она же за отцом за твоим была. Обидела что ли чем тебя, говоришь-то так про неё?
— Обидела? — напряг шею Игорь. — Да она же нас по ветру пустила всех, сука рыжая! — заорал он. — Батя башку с ней потерял — всё только ей, всё — одной! Ты видал, какой у неё дом остался, сколько туда гарнитуров вкрячено? И ты думаешь, она хоть чего-нибудь отдаст нам которому-нибудь? Отвали, говорит, это всё колхозное! Понял?
— А вы-то разве не самостоятельные ещё? Ты, кажись, работаешь, а другой — институт кончает. На ногах уже, вроде.
— Чего-о? Сто сорок рэ — это что, ноги?
— А «Волгу» он не тебе разве оставил?
— Так что, её жрать-то будешь?
— Продать можно. Грузины вон хорошо дают за новую двадцатьчетвёрку, а она у вас с иголочки.
— А ездить я на трамвае должен?
У Степана больше не нашлось резонов. Вот сынка бог дал Сафронычу! Сто сорок рэ ему — не деньги и «Волга» — не капитал! А разобраться, стоит ли он и ста сорока?
Игорь мотал головой, подставляя её под нож морозного воздуха, но не мог остыть.
— Представляешь, сука, а? Батя, говорит, рубля ей не оставил, да? А я-то знаю, сколько у него было и куда всё ушло. Ты скажи, ты им шампанское возил? Возил, скажи?
— Возил, кажись, а чего тут такого?
— А бутылки потом сдавал?
— Да когда же это Анатолий Сафроныч бутылки бы стал сдавать?! — Степан усмешливо глянул на Игоря. Бутылки! А говорит, батю своего знает.
— Во! Не сдавал! А ты знаешь, что бутылка из-под шампанского — самая лучшая кубышка? Суй туда бежевые, затыкай пробкой и закапывай, и ни одним миноискателем не надыбаешь. Он на даче у нас пару таких закопал — как кабан всё изрыл, до сих пор не найду. Приятель у меня в Афгане служил с собачкой, она у него мины пластмассовые ещё только так выковыривала, а тут — тю!.. Всё подряд копать надо, весь гектар, понял?
— А зачем в бутылку да ещё закапывать? Теперь сберкасса любой монетой берёт.
— Дуня! Смотря сколько и от кого закапывать, понял? Она, сука, точно всё это закопала.
— Да ты чего её всё сучишь-то? Какая она тебе сука?
Игорь откинулся к дверце так, словно его одолела дальнозоркость, а надо было получше разглядеть этого вахлака. Разглядел. Бугай действительно такой, что как хочет, так и размажет… «А в чистом поле и тем боле». Сообразил, что с таким лучше полегче.
— А ты тот самый, да? — решил он удивиться. — Который на неё глаз положил? Кащей, знаешь, мне чего говорил? Вот этот, говорит, дядя Стёпа знаешь, сколько вашей Любке рыжих наклепает? Кучу! Если она захочет, конечно.
— Во, дурь-то пьяная где лезет! — засмеялся Степан. — Кащей! Кащея твоего мы уже не догоним — у него все четыре кованы, а у меня только привод. Тут станция скоро, может, я тебя на электричку пересажу?
— Не, Стёп, ты чего? Я ещё возьму да потеряюсь спьяну. Тебе велено меня отвезти? Вот и вези.
— Тогда уж спи лучше. Быстрей приедешь.
Любу разбудил телефонный звонок. Трезвонил он, видимо, давно, и она даже слышала его во сне, но никак не могла понять, что это за звон. Ей снилось что-то тревожное, какая-то пустота, наполненная нудным звоном, и она одна в самом центре этой пустоты и ей некуда деться от звона.
Рывком дёрнулась из пустоты и осознала, что звонит телефон.
— Я тебя разбудила? — спросила из трубки мать.
— Разбудила, — ответила Люба, стараясь окончательно проснуться.
— Извини. Но теперь уже всё равно. Ты телеграмму мою получила?
— Спасибо, получила. Но, ма, лучше бы ты приехала сама.
— Тут много во-первых, во-вторых и в-третьих. Ну, как всё прошло, сколько было народу?
— Много. А какое это имеет значение?
— Колоссальное, девочка. Неужели не понятно? Важно ещё, что за люди были.
— Всякие, ма. Молодые, старые, толстые, тонкие, лысые и волосатые, рыжие и вороные. Каких тебе ещё надо?
— Ты не выспалась? Что тебя так раздражает? А его семья была?
— Были сыновья и их мать.
— Представляю, зрелище для публики… Надеюсь, без скандала?
— Надейся.
— А на самом деле? Что ты надела на траур? Я недавно видела фото с похорон Высоцкого. Марина Влади там так смотрелась! Представляешь, её белые длинные волосы…
— Ма, успокойся, я выглядела лучше, — перебила Люба мамин захлёб. — Ты где сейчас, ма?
— В Юрмале, но, наверно, уеду в Таллин.
— А не хочешь сюда? Приезжай, мне так плохо, ма…
— Девочка, мне не лучше, уверяю тебя. Ты хоть просто освободилась, и у тебя ещё всё впереди. А у меня Никодим хандрит! — Она даже всхлипнула в трубку. — Бьюсь вокруг него, как рыба об лёд, а толку никакого. У него отвергли рукопись, он весь в стрессе и ко мне, конечно, ноль внимания. Даже капризничает, как перед мамой.
— Ну и брось ты его, ма, ко всем чертям!
— И что дальше?
— Укатим к тёплому морю или куда-нибудь в горы, к грузинам пить молодое вино.
— Хочешь, чтобы тебя у меня украли?
— А мы скажем, чтобы нас крали вместе.
— А потом меня выкинут на повороте? Спасибо. Я должна везти Никодима в Таллин, там появился экстрасенс, и мне обещали устроить к нему на сеанс. Ты не поможешь мне деньгами? А то я дорого отдала за починку машины, и сеансы эти кое-что стоят.
— Ма, я не знаю, что у меня есть и есть ли?
— Ну-ну, девочка! Это надо выяснить немедленно. Ты что? С этим не шутят.
— Хорошо, просплюсь и выясню. А потом приеду к тебе, ага?
— Но я же не знаю, где мы будем.
— А я подожду. Устроитесь — сообщишь. Ма, не бойся, я не буду отбивать у тебя Никодима, он не в моём вкусе.
— Никодима оставь. Он не красавец, но вполне порядочный человек.
— Я думала, ты скажешь: «вполне порядочный мужчина»…
— Это уже не твоё дело, девочка. Сейчас ему не везёт с работой и рукописью, но я надеюсь на Таллин. Ты, когда выяснишь свои обстоятельства, можешь перевести мне туда взаймы что-нибудь на главпочтамт до востребования.
— Мне всё ясно, ма. Ладно, я не поеду. Клади трубку, а то много набежит за разговор. Целую.
— Взаимно. Девочка, обязательно разберись как следует с наследством. Вы расписаны, и ты в полном праве претендовать…
— Ма, я сказала «целую», — перебила Люба. — Иди голубь своего Никодима, а то зайдётся в припадке. Всё. Целую.
Люба опустила трубку в колени, откинула голову на высокую спинку кровати, закрыла глаза. Поговорили! Про траурный наряд, про волосы Марины Влади… Сколько же лет маман? Сорок три? Нет, в этом году будет сорок пять. Уже сорок пять. Как легко и бурно прожила она жизнь! Меняла работу, мужей, города. Бросали её, и она бросала. Была парикмахером и натурщицей, женой художника и портного, служила метрдотелем и водила роман с кинорежиссёром, снялась у него в двух фильмах, в последнем играла фронтовую подругу усталого комбата, вышла замуж за администратора этой картины, безуспешно лечила его от алкоголизма, оказалась сестрой-хозяйкой санатория, там оформила брак с членкором и быстро похоронила его. Теперь — какой-то Никодим, и всё это вихрем, на пределе чувств. Поседеть можно от такой круговерти, а она ещё вполне ничего, энергична, легко снимается с места и в любой час дня и ночи готова всё начать сначала, так, во всяком случае, она сама говорила Сокольникову, когда прошлым летом они случайно встретились в Риге в крохотном домике, с вечно закрытыми ставнями, где спрятался едва ли не самый милый в Прибалтике ресторан «Пут, вейн». Анатолий через друзей заказал там столик, а за соседним оказалась маман со своим членкором — шестидесятилетним яйцеголовым теорграмматиком, тощим, как примитивное пугало, и с каким-то механически нудным голосом.
— Ма, и где ты откопала это достояние отечественной культуры? — спросила Люба, когда они оказались на несколько минут без мужчин. — Он каких наук учёный?
— Линг-вист! — звонко произнесла маман.
— Фу, как скользко!
— Ну, что ты? Мне с ним забавно. «В сущности всякий выбор сводится к ответу на вопрос «да» — «нет», «хочу» — «не хочу», — заговорила маман голосом членкора.
— Не хо-чу! — сказала Люба. — Что ты в нём нашла?
— Я переживаю с ним необычайное чувство платонической любви. Девочка, это так пресно! Но он так привязан ко мне, что разошёлся со всеми своими родственниками и объявил меня прямой наследницей на случай переиздания его трудов. А у тебя с этим Анатолием — он вполне! — серьёзно?
Люба пожала плечами:
— Я не знаю, ма. Мы просто вместе работаем, и у него семья. Я ему вроде нравлюсь. Он вытащил меня из парикмахерской, старается взять с собой в командировки. Мне он тоже нравится, он щедрый, но что и как будет — я не знаю.
— Я всё сейчас выясню.
— Ма! Остынь!
— А что тут особенного? Я — твоя мать, а он уже не мальчик, должен понять меня. Кстати, сколько ему?
— Ма, я в паспорт к нему не заглядывала.
— И зря. Это надо делать. Я — деликатно.