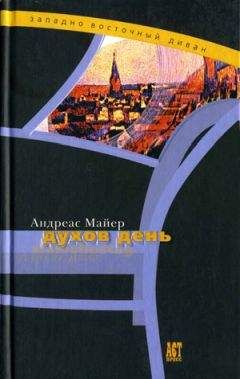Оба они стояли на площадке перед входом в квартиру. Она находит это не совсем этичным с их стороны, сказала дочь, ее совесть мучит, что они войдут сейчас в квартиру покойного. Что, собственно, им тут надо? Не успел этот Адомайт умереть, как они уже вламываются в его квартиру. При этом ведь никто из них не знал его. Он, ее отец, даже никогда его не видел. Не надо было тебе сюда приезжать, сказал Харальд Мор. Она, в полной задумчивости: кто знает, что за люди бывали в этой квартире. У этого Адомайта наверняка были знакомые. Он: говорят, он был волк-одиночка, между прочим, и женатым он прожил очень недолго и почти не общался со своим сыном, а когда у человека такой тяжелый характер, то и большого числа знакомых ждать не приходится. Она, Катя, сама ведь до того слышала, в этом, как его, в том лесном доме, как все говорили про старого Адомайта. Раньше Адомайт занимал первый этаж, но когда его родители умерли и он выгнал свою сестру, твою бабушку, он переехал на второй этаж, а нижний стал сдавать и жил, собственно, на эти деньги. Он проделал все это довольно беспардонно, а еще называется образованным и тонким человеком, да он с самого начала только и делал, что потакал своим пристрастиям, с вызовом противопоставляя себя тем, кто жил на положении служащего, а не то ему пришлось бы встать на одну доску с теми, по отношению к кому он вечно испытывал превосходство, или, может, даже оказаться у них в подчинении, что ему, столь высоко одаренной духовно личности, никак не подходило, вот так примерно выглядит то, что рассказывали про него в том лесном доме. Крайне беспардонный тип, до мозга костей, и всю жизнь жил за счет своего окружения. Катя: то есть как это за счет своего окружения? У него же был доход от сдаваемого помещения. Мор: да, конечно, но он его имел только благодаря тому, что бесцеремонно обошелся со своей сестрой и не позволил ей жить в своем доме. Катя: этого я не понимаю, я это вообще отказываюсь понимать. Ей постоянно рассказывают что-то новое. Насколько она знает, бабушка жила тогда в Англии, и мама тоже первые свои годы провела в Честертоне. Она же, бабушка, сама уехала отсюда, из Нижнего Церковного переулка и этого Нижнего Флорштадта. Как же можно говорить о том, что ее кто-то отсюда выбросил? Он: бабушка вынуждена была прожить все эти годы в Англии, потому что он запретил ей возвращаться домой, хотя она, как она сама говорит, имела на то право, но не хотела оспаривать его в суде. Захлопнуть перед носом собственной сестры, находившейся в таком бедственном положении, дверь — это уже о чем-то говорит. Поэтому-то он, Мор, и утверждает, что Адомайт жил за счет своего окружения, и в первую очередь — за счет своей сестры. Все это очень хорошо вписывается в образ Адомайта — старый, вздорный человек, пожелавший держать все бразды правления в своих руках, повсюду только качал права, другие думают сначала об обязанностях, а он, непонятно на каком основании, вбил себе в голову, что вправе считать себя моральным судьей, ибо всегда говорил о бабушке только плохо, это она, Катя, тоже ведь слышала в лесном доме. Да, сказала она, это она слышала, между прочим, заведение называется не лесной дом, а «Охотничий домик». А перл, сказал Мор, заключается в том, что у старого Адомайта не было даже медицинской страховки, пусть она попробует себе такое только представить. Какой огромный риск! Я никогда не заболею, говорил он, по утверждению других, зачем мне платить эти взносы в больничную кассу? А если вдруг заболею, зачем позволять врачам загонять меня на тот свет? Что за своенравие, сказал Мор, что за упрямство, при том, что у Адомайта были на то деньги, а если и нет, то за него платил бы отдел социального обеспечения. Представь себе только, а вдруг ему понадобилось бы лечь в больницу, какой бы ни была эта страховка, но без нее старый человек в последние недели своей жизни может обойтись обществу в несколько десятков тысяч марок. Ведь на самом деле этот Адомайт никак не мог знать, заболеет он однажды или нет. Он, Мор, считает, надо заставлять людей платить деньги, чтобы они имели медицинскую страховку, он за принудительное страхование, иначе в итоге приходится платить другим. В нашем обществе господствуют принципы общественной солидарности, этот Адомайт мог думать, что ему угодно, но, в конце концов, ведь за таких, как он, приходится расплачиваться обществу. Она: но она никак не может понять, чего он-то так волнуется. Адомайт действительно так и не заболел, ни разу не лежал в больнице, и самое верное доказательство тому — его нашла мертвым здесь, в квартире, его же приходящая домработница, и вовсе он не умер в больнице с оплатой по тарифной ставке за день столько-то и столько марок, она не знает точно сколько. Он: да, но почему он, прости Господи, не отправился в больницу, может, он тогда остался бы жив. Старик сам себя загнал своим ослиным упрямством в могилу. Был бы он застрахован в больничной кассе, пребывание в больнице было бы ему оплачено, именно поэтому он, Мор, и выступает за принудительное медицинское страхование. Ведь не должно же так быть, что одни, как он, Мор, платят по восемьсот марок в месяц, а другие, другие… Она: другие что? Ее двоюродный дед ни разу даже не был в больнице и, судя по всему, не хотел этого. Тут не о чем даже разглагольствовать. Ах, да все это теперь совершенно безразлично, сказал он. Бессмысленно с ней о чем-либо спорить. Она все равно ничего не понимает. И вообще все это штучки Бенно. Это он вбил ей в голову всякий вздор. Она стала совсем другой с тех пор, как познакомилась с ним. Она: оставь, пожалуйста, Бенно в покое. Он к этому вообще не имеет никакого отношения. Он: да-да, конечно. Он ничего и не говорит. Он только высказывает свое мнение. Ну, ладно, пошли, теперь уже самая пора осмотреть квартиру. Похоже, обстановка очень скромная, сказал Мор. Хм, на самом деле половицы. Этот коридор, наверное, ведет в кухню. Она довольно темная, где здесь выключатель? Может, сейчас выяснится, что электричества нет вообще, нет, вот он. В кухне зажегся свет, лучи его падали через открытую кухонную дверь в прихожую и немного отбрасывали свет в горницу. Он, Шоссау, продолжал прислушиваться к разговору двух непрошеных гостей. Боже мой, какая прелестная кухня, воскликнула Катя Мор, когда вспыхнул свет. Смотри-ка, слив напрямую в уличный колодец. И очень красивая кухонная лампа с гирькой! Он: здесь как в музее. И слив к раковине даже не подсоединен. Она: а очаровательный сервант с тарелками! Да здесь вообще ничего не менялось спокон веков. Она все больше и больше понимает этого Адомайта. И очень раскаивается, что не познакомилась с ним при жизни. Достаточно только представить, что она могла сидеть ребенком в этой кухне, со старым человеком, ее двоюродным дедушкой… Боже мой, повторила она, как здесь прекрасно. Он: если она хочет, то может взять из этой кухни все, что ей нравится. Она: у Моров уже есть в доме своя кухня. Но оставить все здесь так тоже нельзя, тогда придется свезти все на барахолку, но у него, Мора, нет ни малейшего желания стоять на блошином рынке и торговать этим антиквариатом, выкрикивая цену каждой обшарпанной тарелки. А в остальном она права, здесь ничего не изменилось, кухня его бабушки в Михельштадте была точно такой же. Правда, слив все же был подсоединен к раковине. Но ему и тогда казалось, будто он находится не в кухне обыкновенного дома, а в краеведческом музее. В кухне бабушки ничто не вызывало его мальчишеского интереса: не было никаких электроприборов, не то что кухонного комбайна, даже миксера не было. И все время воняло кислой капустой или растопленным салом, а то лежали куры с отрубленными головами etcetera, отвратительно. Там и холодильника-то не было, только холодный чулан, а убитая птица всегда имеет специфический запах, если лежит просто так. Надо бы посмотреть, что тут в чуланчике у этого Адомайта?
Мор открыл дверь, подле которой стоял стол, и вошел в маленькую подсобку. Пусто, сказал он, почти ничего нет. Катя: возможно, та женщина уже вынесла все, что могло испортиться. Он: какое ей дело до того, что там лежало? Выходит, она прибрала к рукам все его запасы. Где сало, консервные банки, специи, мед? Вообще никакого следа. Нет, сказал Мор, он ошибся. Вот стоит канистра, а там наверху действительно висит на крюке шматок свиного сала. А внизу тут еще что-то. Картошка. А что в канистре? Минуточку, только крышку отвинчу, вообще это похоже на канистру с бензином. О боже, сидр, гадость какая! И как они все здесь пьют это яблочное вино. Ты видела, в том лесном домике они все пили сидр, и твоя бабушка тоже. Это такая кислятина, у меня от него все кишки болят. Если употреблять это постоянно, можно испортить себе желудок. Она: бабушка говорит, его нужно пить после второго перегона, только тогда он приобретает приятный вкус. Он: если спросить его, Мора, так домработница Адомайта могла бы прихватить и канистру. Такого ему в доме не нужно. Впрочем, он совсем забыл в этом лесном домике про домработницу, как ее там зовут… надо было отобрать у нее ключ, не Штробель ли ее фамилия? Хм, теперь придется проехать мимо этой Штробель, чтобы забрать ключ, нельзя же допустить, чтобы она все это время, владея ключом, беспрепятственно шастала по дому, кто знает, а вдруг ей вступит в голову вломиться сюда и посмотреть, где что лежит из вещей, к которым она не имеет никакого отношения. Странно само по себе, что у этого Адомайта вообще была домработница, ведь он же, как говорят, презирал все уставные отношения по найму на работу, и то, что у него с этой женщиной, произведшей на него, Мора, самое заурядное, можно даже сказать, ниже посредственного впечатление, были такие хорошие отношения, говорят, она часто задерживалась у него, они тут обедали вместе, и он с удовольствием с ней беседовал, об этом, кстати, там не сама Штробель рассказывала, она вообще все время молчала, но зато другие там, в лесном домике, охотно об этом поминали. Именно со своей домработницей он находил общий язык. Что их объединяло, его, образованного человека, каким он якобы был, и простую домработницу? Ты, Катя, можешь себе такое представить, сказал Мор, как он сидит тут с ней, здесь, за этим столом, и наворачивает местную еду ним самодельного сыра или домашней колбасы и потягивает сидр из этой канистры? И о чем они могли разговаривать? О чем может беседовать ученый человек, набравшийся ума от книг и ежедневно совершающий прогулки, с человеком от помойного ведра и с половой тряпкой в руках, приходящего к нему убираться? Штробель того же возраста, что и Адомайт, по, что касается ее физического состояния, она еще находится в очень хорошей форме. В конце концов, семьдесят один год — это не предел для здешних Мест, Но у нее вид сушеной воблы, высохшей старухи, даже волос на голове почти не осталось, рот съехал набок, нос загнулся крючком, словно бобовый стручок. И поговорить с ней в лесном доме не было никакой возможности, она только все время хлюпала, да и сидела в самом дальнем углу, почти все время одна, и очень быстро напилась, потому что к ней все подходили и каждый хотел выпить с ней и помянуть покойника. Он, Мор, если уж быть честным, вообще не может себе представить, как ему вступить в разговор с такой особой, как эта Штробель, да он, возможно, ни одного слова и не понял бы, у него тут и без нее трудности с местным диалектом. Послушай только, как они произносят «Веттерау»! Звучит как Верла. У них вообще все звучит как у американцев, ни одного слова не поймешь. С точки зрения языка ему так и кажется, что он не в Германии. Но с другой стороны, если взять этот лесной домик, ну, хорошо, хорошо, «Охотничий», пожалуйста, хотя это одно и то же, тогда может показаться, что он находится в какой-то глухомани где-то в самой глубинке Германии. В лесу и среди охотников. Эти оленьи рога, охотничьи ружья, трофеи по стенам и повсюду пепельницы, полные окурков от сигар и сигарет, к тому же еще эти старомодные пивные кружки с крышками, а из динамиков отовсюду раздаются эти придурковатые народные песни, и каждый раз при первом такте все они поднимают свои бокалы с сидром или рюмки со шнапсом. Он этого никогда не любил. Они, Моры, не настолько примитивны. А Адомайт тоже ходил в эту лесную забегаловку, говорят, он даже частенько бывал там, тоже мне интеллектуал! Усаживался в этом пьяном угаре и спертом воздухе, и все это ему на самом деле нравилось, он чувствовал себя там комфортно, так они говорят, и с ним там можно было даже поговорить за жизнь, там, и только там, поболтать о всяких пустяках, как они только и могут мыслить, эти флорштадтцы (так выразился священник Беккер в разговоре с ним, Мором), Адомайт даже с вызовом ходил там со всеми в баню. Расспрашивал людей про их политические взгляды, но, как говорят, сам давно уже не высказывался по этому поводу. Он и на выборы не ходил, причем ни на какие, вот уже больше двадцати лет. Или заводил разговоры в лесном кабаке о проектах строительства шоссейных дорог, которые земля Гессен собиралась проложить в этом регионе, об этом Адомайт всегда высказывался очень отрицательно. Он мог беседовать с охотниками на их профессиональном языке, хотя на охоту ни разу не ходил. Он проявлял большой интерес к этому и хорошо разбирался в специальных словах и выражениях языка лесников и охотников, что вызывало у флорштадтцев недоверие, им казалось, он их разыгрывает, но в течение разговора они забывали об этом, потому что Адомайт, как они говорят, войдя в раж, становился очень хорошим и добрым собеседником, так что при общении с ним уже никто не обращал внимания на то, что он обычно предпочитал беседовать только со своей домработницей Штробель, а с остальными флорштадтцами, встречая их на улице, даже не здоровался. Он, Мор, не представляет себе, как это можно, будучи здравомыслящим человеком, интересоваться охотничьими забавами. Адомайт всегда с особым интересом приходил туда, когда местная партийная фракция сторонников бургомистра заседала там etcetera…