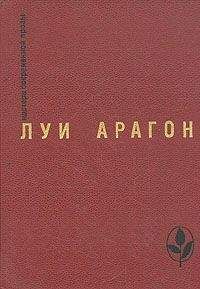При этих словах на дорогу выскочил странный персонаж.
Точно на ярмарке, в тире, когда попадаешь в яблочко из карабина. Старик лет за восемьдесят с ружьем Граса на ремне, с патронташем, в охотничьих сапогах, а на голове кивер. А, доктор!
Замахал он руками. Эта борода веером был в 1870 франтирером, и теперь он извлек на свет божий свой головной убор, дабы приветствовать французов. Донельзя возбужден. Теодор был первым, кто вошел в его жилище несколько дней назад, так что можете представить до чего он обрадовался! А как господа стрелки?
При этом он крупный землевладелец и через жену в родстве с королями Баварии. К тому же — мануфактуры в Мюлузе. Знай я, что встречу вас тут, вот так, неожиданно! Почтеннейший мсье Б. все еще был взволнован тем, что принял у себя в доме милых стрелков, ать, два, ать, два… они их заполучили, они, я имею в виду мадам Б. и его, их, я имею в виду офицеров батальона, к себе на обед, ну и прием, скажу вам! Взять хоть эту манию накладывать в тарелки сырой хрен, от которого потом болит живот. Но с тех пор от мсье не дождались бы за все золото мира слова «красный» — в разговоре он обозначал обычно этот цвет, как вишнево-синий или смородинно-зеленый, и даже если речь заходила о Бетховене… Вам известно, что он останавливался у нас, Бетховен, по дороге в Страсбур… Бетховен приезжал в Страсбур? Питекантроп 1870-го пропускает вопрос мимо ушей, даже если речь идет о Бетховене, ему набили оскомину разговоры о музыке, он предпочитает военные фанфары… Ну, кто лучше знает эти края? Все же он сетует на какого-то младшего лейтенанта, который показался в деревне с прислугой, с его прислугой, мсье Б… я имею в виду.
Надо все же соблюдать приличия. Мне вспоминается рассказ Бетти: спрошу — ка я его, правдива ли вся история о полуголых танцорах, но Теодор перебивает меня на первом же слове. Вы что, спятили, Удри, — после того, как поспешно отделался от старика, сказав ему на прощанье, а я и не знал, что механические бритвы существовали уже во времена Тьера, — есть вещи, о которых не говорят перед противником. Противником? Теодор ухмыляется: противник не обязательно тот, кто стреляется с тобой на поединке. А знаете, с кем еще в родстве сей национальный гвардеец, и тоже по женской линии? Нет? Угадайте! Сдаетесь? Скажите, что сдаетесь… Ну ладно. Сдаюсь. Теодор долго молчит, точно выжидает, пока я созрею. Или хочет поиграть на нервах. Пощекотать мое любопытство. Явно обдумывает, как поразить меня. Или придумывает. Кем бы это поразить меня посильнее, а?.. Иисус Христос, Бетман Гольвег, Мухаммед, Блерио… кто? Но где же церковь? Да вот, рядом. А, черт побери, ну и силен же этот Вобан! Представьте себе Мадлен, только без колонн. Среди поля, где не было бы полей.
Все это, все, что за этим следует, явственно видится мне сегодня, всплывает из памяти, точно старый романс в музыкальном ящике Пандоры, цилиндрик вращается, цепляет, крутится. И нет уж ни Фор-Луи, ни меня. Это театральная Троя, сочиненная, чтобы высказать то, что назрело, и по ней прогуливается Троил с приятелем, такие, как на критской глиняной посуде, со щитами, закрепленными на руке, в своих греческих поножах, шлемы набекрень, короткие кинжалы, они ведут беседу о Крессиде, которая берет уроки пенья, война там или не война… Не говорите, что мне следовало бы уточнить пейзаж, реалистически воспроизвести его, чтоб можно было по нему определиться, ведь Рейн — не Скамандр, знаю, знаю… И Модер тоже. В моем глубинном зеркале все видится именно так. К примеру, место, где приятели сворачивают, дамба. Существует дамба на самом деле? В тусклом свете на ней поблескивает канал. Вообразите парижские укрепления до 1914 года, а поверху течет вода. Идешь по течению. Кидаешь в нее камешки. Молчишь. Как ни в чем не бывало. Впрочем, меня это успокаивает. Так с кем же в родстве ваш мсье Б… из Людвигсфесте? С Ле Баржи, княгиней де Караман-Шиме, с Бони де Кастелланом, с Маринетти? Как я ни напрягал свое воображение, ответом было лишь «А?». Впрочем, когда мой Теодор с победоносным видом провозгласил имя Фридриха Энгельса, я испытал разочарование. Потому что, при всем его воображении, ему и в голову не могло прийти, что такой начитанный парень, как я… не имел ни малейшего представления об этом Фридрихе как его там дальше. Он попытался объяснить мне жестом. Тот, другой. И т. д. Но раз уже я не знал этого господина, то и не знал.
Непоправимо, коль скоро он умер много лет назад, ему, бедняге, не пригласить нас выпить вместе. Вы говорите, мой дорогой Теодор, что этот Фридрих и прочее… был, значит, немецким промышленником, из хорошей семьи заправил тяжелой промышленности Рейнской области, не так ли? Откуда мне знать его, сами посудите… моя семья совсем из другого мира. И так далее.
О чудо снега под ногами, скрип… сверкающая блестками пудра, которую гонит ветер, борная кислота, легкая-прелегкая, а под ней безвозвратно отвердевшая земля, накрепко схваченная, накрепко замороженная, непроницаемая земля, кора, которая отделяет нас от царства мертвых, снег, подобный словам, подобный тому, что заменяет тебе мысль, ускользающий и пленительный. А может, вовсе даже не было никогда войны — ни в 1870–1871, ни в 1914–1918. И все только воображение, как и красота снегов…
Мы спустились в заросли, короче, в лес, вышли на просеку вдоль Рейна, вверх по течению. Сейчас Рейн, Модер — всё в разливе: меж кустами плещется грязная вода со снегом, местами пройти можно, но надо знать где. Вода просачивалась повсюду, все пропитывала, булькала, завихрялась вокруг стволов, неожиданно прокладывая себе новый путь, пуская пузыри, которые золотились на сером фоне, ну и мерзость, тут, казалось, пропадешь ни за что ни про что, достаточно поскользнуться — и дело с концом. Теодор забыл о своем промышленнике, он был окончательно околдован, говорил об утопленниках, о Лантельме, упавшей с яхты Эдварда… а эти из какой оперы? (Меня подмывало бросить в эту уху Шумана, но я сдержался. В мире Теодора для Шумана не было места.) Вдруг он сделал стойку, как охотничий пес: посмотрите, да посмотрите же!
Качались верхушки обнаженных деревьев. Внизу, вокруг стволов, завихрялся Модер. Деревья походили на часовых, которые вот-вот уснут, выронив в воду свой пугач. Высокие ветви тополей никли под тяжестью странных птиц. Это еще что?
Теодор, с загоревшимися глазами охотника, голосом старого бабника, натолкнувшегося на девочек, которые стайкой выходят из школы, сделал мне ш-ш, ш-ш и чуть слышно выдохнул: «Фазаны…»
Фазаны? Да, фазаны всего мира назначили тут сходку. Они качались на ветру, чувствовалось, что они, отяжелевшие, словно хмельные, клюют носом, скованные морозом, рыжие птицы, которые притаились здесь, может, они уже убитые, может, это от дроби пошатываются под ними деревья. Время от времени один из них пробует встряхнуть крылом и сам пугается шума, который произвел, мгновенно захлопывается, точно сумочка. Ты заметил, есть ли в ней пудреница? Фазаны знают, что упадут, но этого еще мало, чтоб взлететь. Взлететь, чтоб улететь, но куда? Со всех сторон вода, глинистая и зеркальная вода, так что кружится голова, это хуже, чем кофейная гуща, взор мутится, зоб выворачивает наизнанку, и фазан изо всех сил вцепляется в свою ветку, посмотрите, посмотрите вон на того, на какого? Справа, нет на другого… вот, вот. Вот!
Фазан, как камень, как самородок, как горящая лампа, как невпопад сорвавшееся с языка слово, со своего насеста, в бреду, с закатившимися глазами, с колотьем в груди, с мурашками в перьях, с немым открытым клювом, выпустил ветвь и, зачарованный плеском, смертельно опьянев от головокружения, падает, но едва шевелит крылом, утратив нить, все, чему обучился у матери, весь свой жизненный опыт дичи, он вращается, огненный, мертвый лист, кулек жареной картошки, с чем сравнить его? Он плюхается в воду, трепыхается в ней, потерянно плещется с криком, в котором уже нет ничего фазаньего, его уносит течение… А Теодор вдруг придя в себя: «Жаль… у вас нет случайно удочки? Вы смеетесь, а я вот уже четыре дня с завистью гляжу на местных, которые ловят на крючок бекасов… но уж фазанов, ни в сказке сказать!»
Срезав петлю, которую делает, отступая вглубь, Модер, мы вышли к Vater Rhein.[16] Взглянуть на Германию на том берегу. Вот и ты, моя милочка. После всего, что о тебе нарассказали… Страна как страна! Кто-то там виднеется, смутно, река широкая, их двое, по-моему, как и нас! То есть, мне не удается точно разобрать, какого они пола, отсюда их контур нечеток. И все-таки есть в этом что-то новое, после всех обрыдлых пейзажей войны. И я принимаюсь объяснять Теодору. Поскольку у меня, естественно, имеется собственная точка зрения. Он слушает меня с учтивой миной, когда я говорю о мадемуазель Книпперле. Забавно, но и в моем тоне, когда я говорю о ней с ним, появляется что-то церемонное. Я не посмел бы назвать ее Бетти. Может, тут играет роль мундир, красный бархат на околышке кепи. Всякие бывают карнавалы. Это не ускользает от Теодора. Он слегка посмеивается надо мной, не слишком. Я мог бы многое от него узнать. Он был, к примеру, в экспедиционном корпусе в России, не объяснит ли он мне, что такое Советы… я не верю тому, что пишут о них в «Матен». Как ни странно, он уклоняется от прямых ответов, архитектура, крашеные дома, зеленые и темно-малиновые крыши.