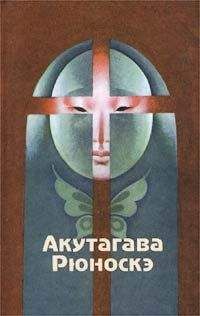Так бывает, когда купаясь в море, нырнешь глубоко, а потом всплываешь медленно и чувствуешь скользящие прикосновения медуз у самой поверхности, в теплом слое воды.
Я поднялся выше, сознавая себя уже в ином пространстве, которое, однако неотторжимо от того, что внизу, куда мне уже не было возврата.
Еще одно обстоятельство не упустить бы: в тот миг, когда невесомое отделялось от весомого, движимое от недвижимого, когда преодолен был роковой порог, я видел все то же, что и прежде, но иначе, узнавая и не узнавая. То есть та же дорога была подо мною, деревья, фонарные столбы — не черные, не зеленые, не серые, а в неопределенно-серебристом свете. Не было источника этого света, он существовал сам по себе, ровный и спокойный — помнится, я ничуть не удивился отсутствию светильников, но невольно отметил это. Удивление мое длилось не более секунды земного времени; я был увлечен, захвачен, прямо-таки одержим сознанием чего-то другого, что можно было назвать озарением, отчего иногда восклицал, неведомо к кому обращаясь:
— Ах, вот в чем дело!
Наверно, мне казалось, что я постиг разгадку жизни… и смерти.
3.Прежняя земная привычка толкнула меня, я поспешил домой, движимый желанием поделиться тем, что открылось мне, словно это было счастливым бременем, которое жаждало разрешения. Тут надо сказать, что я перемещался отнюдь не благодаря физическим усилиям — не летел, как птица в воздухе, и не плыл, как рыба в воде, и не шагал, как человек по земле, а вот именно перемещался согласно своему желанию или усилием воли.
Окна моей квартиры светились, я проник в нее, не считаясь с преградами материального свойства — прямо с улицы, сквозь стену, а не через входную дверь.
Не забыть бы: в лоджии я приостановился, оглянулся — передо мной был знакомый вид — площадь, Дворец Культуры «Современник», за ним широкий разлив Волги, за нею лесистый берег. Вид отсюда я очень любил и мог лицезреть его подолгу. Над тем лесом обычно в конце каждого земного дня разыгрывалась передо мной фантасмагория заката — зрелище величественное, оно неизменно завораживало меня. Несколько лет я прожил в этой квартире и каждый день мог наблюдать закаты… Что же, значит, я прав оказался, написав однажды:
«Может быть, этот дом — мой последний приют, / Потому его окна глядят на закат. / Иль проклятые думы меня в нем убьют, / Или грусть сокрушит, доконает тоска…»
Нет, грусть не сокрушила, и тоска не доконала — я просто угодил в так называемое дорожно-транспортное происшествие и погиб. Однако же предсказание мое оказалось пророческим — о последнем приюте земном.
«Может быть, этот свет из закатных окон / Просияет к исходу последнего дня. / И во веки веков будет памятен он / В мире том, где Господь ожидает меня…»
Я даже сочинил мелодию и любил напевать этот самодельный романс… когда был живым. Жена не могла его выносить, и не потому, что так уж плохо пою, просто ей слышалась в голосе моем обреченность.
— Как ты не понимаешь! — говорила она встревоженно. — Нельзя провоцировать потусторонние силы.
Теперь она еще не спала; по-видимому, ложилась, но снова вставала, обеспокоенная моим долгим отсутствием, а сейчас занималась на кухне мелкими делами, прислушиваясь к тому, что происходит на лестнице. А там ничего не происходило. Не слышно было ничьих шагов; лифт не шумел и не лязгал. Она хмурила брови и явно перебирала в уме укоризненные слова, которые скажет мне, когда вернусь: не в обычае мужа возвращаться домой так поздно, потому, наверно, она не знала, что и предположить.
Но вот странно: я вернулся, а она не обратила на меня никакого внимания. — Послушай, что я узнал! — с жаром и воодушевлением начал я. — Оказывается… Она не обернулась на мой возглас, не отозвалась.
— Все очень просто, — продолжал я. — Представь себе, я знаю, теперь, что такое смерть и что наступает вслед за нею…
Выражение ее лица не изменилось, и я понял, что она не видит и не слышит меня! Я замер и некоторое время смотрел на нее в полной растерянности. Лицо моей жены в эту минуту было несчастным.
Что-то забрезжило во мне, какое-то чувство, подобное далекому-далекому воспоминанию, где-то внутри, в том месте, где полагалось быть сердцу и где его теперь явно не было; именно живое чувство затеплилось во мне, когда я смотрел на эту женщину с таким знакомым лицом, в таком знакомом домашнем наряде. Глухое, невнятное эхо мягко прокатилось в душе… или где?
Тотчас некая сила повлекла меня в том направлении, где тело мое по-прежнему лежало на обочине дороги. Я увидел его издали и остался к нему не то, чтобы равнодушен, но… не почувствовал его. А потому возвратился на кухню.
4.
— Ты слышишь меня? — опять начал я и даже тронул свою жену за плечо, подергал за рукав. — Да обернись же!
Нет, она не слышала моего голоса, равно как и не ощутила прикосновения. Тогда я встал перед ее лицом, внятно и громко окликнул, но опять не добился ничего; она продолжала переставлять посуду со стола в шкаф.
— Катерина Осиповна пренебрегла Юрием Васильевичем, — горестно заключил я.
Слишком важное нас теперь разделяло — не стена и не пропасть, а нечто еще более значительное, и оно делало невозможным общение между нами. Это возмутило меня, и я напряг все свои силы, чтоб хоть как-то дать ей знать о себе, но достиг лишь того, что вдруг жалобно и тонко запели водопроводные трубы. Жена моя побледнела, растерянно вытерла полотенцем мокрые руки, опять прислушалась к тишине на лестнице.
Я смутился и неожиданно для себя попросил, не надеясь, впрочем, решительно ни на что:
— Послушай, случилась небольшая неприятность… Знаешь тот детский садик, напротив аптеки? Вот где его калитка, а за дорогой фонарный столб. Возле него я и лежу.
Нет, мои слова не произвели на нее никакого впечатления — Сходи, — попросил я, — может быть, мне еще можно помочь. По крайней мере надо убрать с дороги, а то… унизительно для меня — валяться этак-то.
Что просить, коли она меня не слышит! Я сел за кухонный стол, где сиживал всегда за чаем или за едой, грустно посматривал на свою жену.
Мы прожили, не расставаясь, тридцать лет и три года. У нас был очень дружный супружеский союз: мы чрезвычайно редко ссорились. Еще скажу: у меня очень заботливая жена и заботливость ее по отношению ко мне говорит о том, что она меня любит. Но за сорок лет я ни разу не слышал от нее слов «я люблю тебя», «милый мой» или что-нибудь в этом же роде.
Где-то мною написано: «Встретилась бы какая-нибудь дура, сказала бы: „Милый мой, я люблю тебя“ — ушел бы за ней хоть на край света». Но таковая дура не встретилась. Я смиренно люблю свою жену, не понимающую, что даже вот этой гераньке, которая на окне, надо говорить ласковые слова, а не просто заботливо поливать и смахивать с листьев пыль — только тогда она пышно зеленеет и охотно цветет.
Вот оттого написалось про «последний приют»:
Может быть, может быть, я забуду тебя. / Твои веки, так кротко смеженные к сну, / И обиду свою, что жила, не любя, / Рядом с сердцем моим, в добровольном плену.
Она сердилась на меня, услышав впервые эти стихи: «Зачем ты так написал?» И бурно протестовала против «добровольного плена». «Но ты никогда не говоришь мне „люблю“, поэтому…». «Да что за глупости! — возмущалась она. — Раз я с тобой живу столько лет, значит, люблю. И больше ко мне с этим не приставай».
«Но во веки веков будет помниться мне / Отраженье небес в величавой реке / И герани цветок, как узор на окне, / И слеза на моей озаренной щеке».
Как мне было грустно сидеть тут невидимой тенью… со слезой на щеке. Опять жалобный звук послышался в водопроводных трубах.
Жена моя вышла в прихожую, я последовал за нею. Она оделась; мы вместе покинули нашу квартиру; я нажал кнопку лифта, но кнопка покорилась только ее руке. Однако лифт остался неподвижен. Пришлось спуститься по лестнице, — я ждал уже на первом этаже. На улице она остановилась в нерешительности. По-прежнему шел дождь; лужа возле подъезда разлилась широко.
— Знаешь, ты поспеши, — сказал я виновато, пока жена обходила лужу. — Наверно, надо бы вызвать «скорую».
Она не слышала.
— Ну, пойдем же! — тянул я ее за рукав. — Кто знает, может быть, еще и можно помочь… Пойдем скорей!
Она постояла и пошла по направлению к торговому центру. Я же поспешил к злосчастному фонарному столбу и остановился над телом своим, поджидая ее. Лучше бы ей идти проезжей частью дороги, а не сквером: я понял, что она может не заметить меня, лежащего, — фонарь не горит, тут темно и к тому же кусты.
— Ну, посмотри сюда! — позвал я, когда она проходила мимо, и даже рассердился. — Ты что, не видишь?
Нет, она не оглянулась в мою сторону — должно быть, дождем слепило ей глаза да и ветром секло.