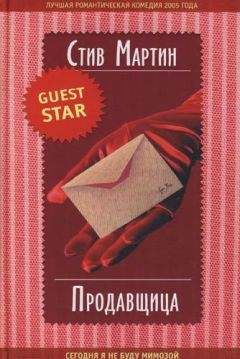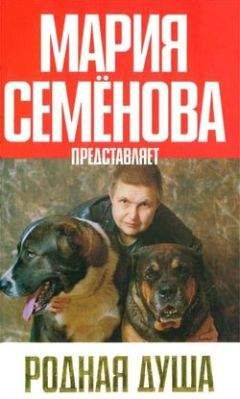Если в течение через полчаса они не закончат есть, я как пить дать описаюсь. Вот будет Лильке подарочек на мое день-рожденье — стыд и позор, тринадцать лет стукнуло, а писается, как маленький! Хочешь, деточка, я тебе чудного доктора дам, из Свердловской больницы — он у Людмилы Сенчиной камни выводил, с большим успехом! А она сама знаешь с кем… …Завтра приедем — в почтовом ящике от мамы из Коми телеграмма с зайчиком: " поздравляем сынулю днем рождения расти большой умный горячо целуем мама папаяша». У Лильки в серванте под простынями и полотенцами с осени еще лежат для меня фирменные джинсы «Врангель» или даже «Леви Страус» со всеми лейбочками, с медным зиппером и с двойной прострочкой на задних карманах в виде «дубль-ве» (если это «Врангель») или в виде простого латинского «вэ» (если это, не сглазить бы, «Левис»). Папа из Израиля вдруг ни с того ни с сего взял и прислал их прошлой осенью двоюродной бабушке Басе для передачи мне. Один негро-финн иудейского вероисповедания, совершавший круиз на теплоходе «Максим Горький», согласился их свезти до Одессы. Проходя мимо Хайфы, у него слетела на прогулочной палубе черная широкополая шляпа, и он за ней следом прыгнул в Средиземное море, потому что это была очень ценная шляпа, подаренная ему лично любавичским цадиком Шнеерсоном, а папа с борта своего ракетно-сторожевого катера «Иона-пророк-Алеф-бис» негро-финна и шляпу выудил и, согласно международной конвенции о спасении на водах, возвратил на советский лайнер. Болик и Лелик, двоюродной бабушки Баси сыновья, ездили той же осенью в Ленинград на заочную сессию в Холодильном институте и заодно захватили посылочку. Но я об этом ничего не знаю — и никогда не узнаю. Лилька скажет, что это от бабушки Баси и всех одесских родственников. Носить их можно будет только в театр и в гости; ничего, уже скоро Девятое мая, мы пойдем к Марианне Яковлевне кушать рыбу в кляре. Перманент, конечно же, подарит книгу «Как жили наши предки славяне» тысяча девятьсот пятьдесят шестого года издания, он уже ее принес с Мориса Тореза и надписал учительским красивым почерком снизу вверх наискосок, красными чернилами. …Но если мы завтра ни свет ни заря уезжаем, как же тогда я получу настоящий капитанский бинокль от дяди Якова?! Или он потом довезет, когда снова поедет в Ленинград в командировку за гвоздями, горбыльком и штакетником? Потом может и забыть, у него ж голова не Дом Советов, если верить двоюродной бабушке Циле, которой виднее; придется ждать до летних каникул… Я снова укладываюсь на постель и двигаю по ней ногами, будто плыву на спине. …А что, интересно, подарит сама Лилька? Она засмеялась, сделала вверх-вниз ресницами мимо меня, и сказала, что все, что захочу. А если я луну с неба захочу?!!.. Одеяла взбиваются, вздымаются, наматываются на ноги, не пускают плыть. Не хочу я больше зырить в это их окно уродское — ни так, ни обратно, через пыльно-волнистое настенное зеркало. Чего я там, в самом деле, не видел? — сортира? авианосца? маскировочных лесов? — слава богу, у нас тут, в погранзоне «Полуостров Жидятин», ничего не меняется, все остается как есть. За этим следят Вооруженные Силы и Военно-Морской Флот. И пограничные войска, конечно, которые, однако же, относятся к Министерству не Обороны, а Внутренних Дел, вместе с пожарниками и милицией. Но им на это лучше даже не намекать — обижаются, как девочки. Позапрошлым летом я тут действительно еще ничего толком не знал и вообще думал, что за капитан-лейтенантом следует капитан-капитан, и это про него поется в песне: капитан-капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля. Теперь-то я все знаю — и порядок службы, и кто за кем следует, и что к чему относится, и где что спрятано, в смысле замаскировано, и все военные корабли по именам, и пограничных собак. Но это все без исключения государственные военные тайны, а мы давали подписку о неразглашении. Я-то, кстати, как раз не давал, как несовершеннолетний пацанчик, да я уж ничего не разглашу, это ясно как божий день — даже за мильон. Даже за мильон терзаний … Интересно, а меня сейчас никто не слышит случайно, как я тут думаю? Вдруг они там, в Америке или в Финляндии, насобачились подслушивать мысли? Тогда им и шпионов уже никаких не надо — подключился к головным волнам несчастного больного ребенка, который не может заснуть из-за ангины и подряд все думает, — и нате вам, пожалуйста, пожалуйте бриться: из прибора безостановочно выползает узкая желтая лента, наподобие телеграфной, и, изворачиваясь-перепутываясь, заполняет шуршащими кольцами всю ихнюю шпионскую контору. Но если б они такое сделали, наши тогда бы тоже изобрели им назло какие-нибудь глушители или отражатели и расставили бы их вдоль всех государственных границ — тогда никаких бы мыслей от нас за кордон не уходило. Вот была бы у меня своя такая машинка, которая распечатывает мысли, — тогда бы я все записывал, что себе думаю перед сном и когда долго сижу в туалете (Что ты вообще себе думаешь? часто спрашивают меня двоюродные бабушки, особенно Фира, когда им кажется, что я, например, мало занимался на скрипке и вообще раздрызганный и что у меня, как утверждает перманентовский кусок змеи, Марианна Яковлевна, какая-то якобы подвижная психика); затем бы я вычеркивал государственные секреты и нелитературные выражения — и в результате у меня получались бы целые книги, как «Капитанская дочка», «Цусима» или «Повесть о настоящем человеке», и притом безо всякой этой писанины, которая так отталкивает в домашних заданиях; от нее же и у настоящих писателей пальцы — большой и указательный (с продолговатыми ямками на подушечках) и средний (с засиненной чернилами бесчувственной мозолькой слева над ногтем) — несомненно, под вечер немеют и ноют; мою бы книгу напечатали в журнале «Новый мир», и я бы стал самый молодой член Союза писателей.
Нет, все-таки надо сходить, как говорят Жидята, до ветру, не то дело погано кончится. Одеваться… обуваться… через кухню («куда-куда… — туда!»)… через сени, громыхая об уложенные вдоль стен дровяные чурочки, о мятые ведра с глазастой картошкой и о дробно звякающие ящики с распрямленными гвоздями и ржавыми подковами… еще метров сто по двору на несмазанных лыжах… У левого крыла пакгауза — маленькая баня, сложенная из отвалившихся от пакгаузной кладки темно-красных голландских кирпичиков (Петр Первый привез их сюда назло надменному соседу в двух трофейных галерах и заложил собственноручное основание запасному магазину, который тогда стоял прямо на берегу; море потом, как видите, отступило, рассказывает заставский замполит старший лейтенант Чутьчев, когда приводит очередное пополнение на историко-революционную экскурсию). А у правого крыла — дощатая летняя кухня. …В Ленинграде, наверно, все уже потихоньку начинает таять, течь, плавиться — обнажать и смывать накопившийся за зиму мусор. Летний сад и все другие сады замыкают амбарными замками на оттайку/просушку, улицы пустынны, просторны, черны и дымятся свежей влажностью, которую вдохнуть — счастье; последние горки желтого и сиреневого в черных точках и прожилках снега лежат по обочинам, дожидаясь последних снегоуборочных машин, а здесь, на финской границе, — русская зима, белым-бело во все пределы, снег и лед; костный, звонкий, проникающий холод, как ни оденься и как ни обуйся. А что, если там, в сортире, в смрадной темноте, кто-нибудь есть? Сидит невидимым орлом, сверкая глазами, и как зарычит, когда я со страшным прерывистым скрежетом потяну на себя перекошенную дверку. …Могла бы под кровать ночной горшок, или бидон какой больному брату подставить, или что-нибудь типа того, не в антикварную же скрипку мне отливать; только и думает, что о своем борще, что хорошо бы, дескать, туда еще маслинки докинуть, но где ж ее тут достанешь, в такой-то глуши запредельной: у Верки в «Культтоварах» нету, одни гадкие — гладкие и зеленые, как сопли, — афганские оливки, а из Ленинграда взять не догадались, в панике после Черненкиной смерти! Богатые пьют кофе-гляссе, бедные ходют ссать на шоссе, сказал бы мичман Цыпун, научившийся этому выражению от срочнослужащего кожного художника Яшки Кицлера. …А вдруг я оттого, что писаю сидя, постепенно сделаюсь женщиной?! Внезапно мне становится под ложечкой жарко, между лопаток пробегают одна за одной несколько длинных потно-ледяных мурашек, и я сызнова сажусь на кровати по-турецки, как узбек. Писька у меня постепенно втянется внутрь, и на ее месте окажется дырочка. Или же сама писька останется, но под нею постепенно прорежется женская щелка, как у многих уродцев у Марианны Яковлевны на фотографиях? Я хочу проверить, не началось ли уже это, но сейчас же выдергиваю из трусов руку в пещеристой горячей мокрости. Дверь распахивается, вгоняя в комнату кухонный свет и борщовый пар. «Ну как дела, Паганини? Лучше?» — Перманент трусцой пробегает к моему изголовью, чтобы позаглядывать поверх занавески, подпрыгивая сбоку на цыпочках. Я вижу в зеркале его пляшущий взрытый затылок. Вдруг он прекращает прыгать и решительно рвет занавескин угол. Из рамы вылетает правая нижняя кнопка и наводит множество звону в остеклении буфета. Перманент прижимается к оконной раме щекой, его согнутая спина и круглый отставленный задик надолго замирают — он смотрит из-за угла вдаль. А в дверном проеме молча стоит Лилька — упершись бедром, слегка согнув в колене дальнюю от косяка ногу, ближнюю же выпрямив до уходящей в пол кривости; каждая из рук поскребывает противоположную подмышку. Не знаю, что она там делает своим невидимым в контражуре лицом, полуокруженным и перечеркнутым белыми лучащимися волосами (В контражуре! Опять злоупотребляешь иностранными словами, Язычник! Русский язык мы портим! — то есть ты портишь. За это — только тройка…) — наверно, она там одними глазами — сузившимися, побледневшими — улыбается в спину Якову Марковичу: он ей нравится. «Ничего, старичок, все будет тип-топ, мы с тобой еще набомбим фирмы, вагон и маленькую тележку набомбим!» — наконец выпутывается из занавески узкое, узкобородое, блестящее узкими очками лицо. Король Дроздобород какой-то. И он поспешно выходит. Лилька с хрустом затискивает за ним дверь (сам он всегда оставляет все двери настежь, даже в уборную — такое у него свойство) — и сразу же встревоженное шу-шу-шу на кухне, еще и к столу не сели. Нет, вряд ли поселковые пойдут Жидятам помогать на нас нападать, хотя бы те их и попросили. Не любят они Жидят и называют их за глаза «чухна белоглазая» и «белофинские паразиты», потому что после Великой Отечественной войны поселок (которого еще не было, так как прежняя белофинская деревня сгорела от прямой наводки с моря) заселили сплошь хохлами с Украины и скобарями из Пскопской области, кроме одной довоенной семьи, Субботиных, которые позже — значительно позже — вернулись из эвакуации, а может, и не из эвакуации; Жидята же здесь всегда были, и ту войну, и эту, и сразу после, и несмотря ни на все старую Жидячиху, когда она была еще молодая, взяли работать на заставу и отдали ей в бессрочную аренду пакгауз, через который перелетело. Нас они, правда, тоже не любят —ленинградцев и москвичей вся Россия ненавидит, объяснял ефрейтор Макарычев, когда в ходе великой мерилиновской махаловки медленно вмазывал Яшку Кицлера в новый, еще черный и парно-крупитчатый асфальт у клуба Балтфлота, — но, естественно, не до такой степени. Мне, например, сегодня утром поселковые пацаны ничего не сказали, когда я по поручению Якова Марковича прикатил на выборгское шоссе побомбить фирму, как он это называет, — то есть нафарцевать у финских туристов парочку библий. Сам он не может — он на идеологической работе, и вообще это детское дело, подлавливать хельсинкский автобус на стоянке и разыскивать в придорожных прилесках разбредшихся по нужде фиников. Интересно, что мужчины, как правило, становятся перед березками, а женщины присаживаются за елочки. Поселковый пацан, фарца малолетняя, учил меня Перманент, осторожненько подходит сзади, изо всей силы хлопает мужского финика по плечу (женских лучше не трогать, а то они вздрагивают, напускают себе в сапоги и невероятно сердятся) и с криком пурукуми, что по-фински означает жевачка, моментально отскакивает, чтобы не быть пораженным поворачивающейся струей — рассыпающейся, позолоченной сквозь ветви солнцем. Но я должен делать не так. Поскольку как бы междуцарствие и контроль временно ослаб, я должен прямо подойти к автобусу со стороны шоссе и тихо сказать в каждое окно: Ай вонт э холи байбл ин рашен. Если откуда-нибудь выкинут библию или что-нибудь еще, я должен сказать фенкью вери мач и закинуть в это окошко значок. Тогда это будет не фарцовка, а дружба между народами. Зачем вам, Яков Маркович? спросил я: У вас же уже есть одна библия, которую мы в позапрошлом году взяли почитать у двоюродной бабушки Фиры — дореволюционного издания и сзаду наперед, на правых страницах еврейские буквы, а на левых по-русски. Он ничего не отвечал, только подмигивал из-за золотого очка и сыпал мне в руку колкую горсть октябрятских звездочек. — Еще один гешефтмахер нашелся, с содроганием сказала Лилька: Я с тобой в Коми не поеду, не рассчитывай, у меня ребенок на руках и квартира. Он засмеялся, сглатывая, и высказался в том смысле, что две библии — это уже ей югославские сапоги. Не поеду, не поеду, и так и знай! Ищи себе других декабристок! А ты его не смей слушаться! Не в школе! Понял? Я разложил по карманам октябрятские значки с золотисто-пушистым Володей Ульяновым, под слегка потечной эмалью заключенным в пятиконечную звездочку, и заторопился, чтобы не опоздать к автобусу, а потом еще до закрытия ларька успеть в поселок (по субботам раньше): купить «Пионерскую правду», если завезли. Когда был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке снеговой… Разлетелся, разбежался, размахался палками — вот и наглотался горячим горлом холодного воздушка. Может, пацаны, фарца малолетняя, меня и не заметили, поэтому ничего не сказали; — когда я подошел к шоссе, хельсинкский автобус уже как раз сворачивал на стоянку, и они все разбегались по исходным позициям; только их белые головы и тускло-малиновые курточки, которые из финского нейлона шьют цыганки в показательном пушсовхозе «Первомайский», мелькали за деревьями. И я был в такой же — продавщица Верка одну оставила двоюродной бабушке Циле за червонец сверху по блату. Все дети и подростки в районе их носят, только хозяйский малой еще ходит, как сын полка, в желтом пограничном полушубке, но он, никто не знает почему, никогда не фарцует. Может, его пацаны не пускают? За такой полушубок плюс ремень со звездой, сказал Яков Маркович, финики дают журнал «Плейбой» с голыми женщинами, или пять банок финского пива, или полблока фирменных сигарет. Пуся-Пустынников из нашего класса тоже ходит фарцевать, к гостинице «Европейская», и меня с собой приглашал, но я не согласился (Зассал, трухлявый, удрученно заметил Пуся) — там милиционеров как собак нерезаных, и все в штатском. В смысле, не в американском, а в гражданском. То есть переодетые. Ему-то что, он все равно на учете в детской комнате милиции и пойдет в ПТУ, а потом в колонию и в тюрьму, а я должен быть как еврей особенно осторожный.