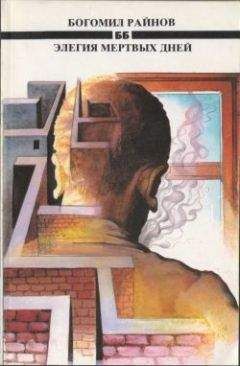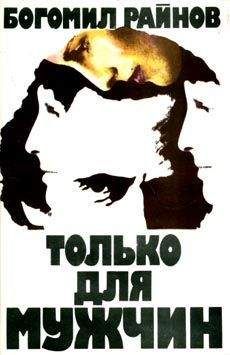Можно было бы прогнать его, но в те времена это могло бы повлечь за собой лишние неприятности. Поэтому я предпочел прогнать его так, как отец выставлял из дома нахалов – молчанием. Русский предложил мне сигарету, но я отказался. Он покрутился, еще раз выложил мне свое алиби – «одевают, платят, какого рожна больше?» и в конце концов испарился.
– Что это за немецкий солдат? – спросил Старик, когда новоиспеченный власовец ушел.
Я объяснил.
– Не хочу, чтобы у нас в доме бывали немецкие солдаты, – резко сказал отец. – Не забывай, что в этой комнате сидел Вапцаров.
Все эти эпизоды, которые я привожу, могут показаться не имеющими никакой связи, но в моей памяти все это различные проявления одного и того же человеческого характера, различные формы воздействия, которое этот характер оказывал на меня. Это были уроки поведения и мировосприятия, которые Старик преподносил мне в своей обычной манере – без долгих объяснений и нравоучений, а просто и внушительно, порой беглым намеком, а иногда с коротким и безжалостным приговором.
Помню один из последних уроков, которые он преподнес мне в то тяжелое и душное военное время. С присущей молодости самоуверенностью я начал «Историю современного искусства», которой не было конца-краю и которую я забросил где-то на трехсотой странице, потому что не было никаких видов на ее издание. Примерно к тому же времени относятся и наброски «Путешествия в будний день». Забросил я и начатые переводы из Маяковского, так как мечтать об издании подобных переводов в те времена мог только сумасшедший. На моем письменном столе валялись рукописи, покрытые слоем пыли, в комнате было разбросано и настолько запущено, что она казалась необитаемой. Она и в самом деле стала почти необитаемой, если исключить те несколько часов, которые я проводил здесь по ночам, потому что дни напролет просиживал в кофейнях и кабаках, убивая время разговорами.
– Уже несколько месяцев ты не бываешь дома, – сказал мне однажды Старик. – Посмотри, в каком беспорядке ты живешь.
И он показал на беспорядок в комнате.
Я молчал, понуро ожидая, пока пройдет гроза.
– И беспорядок не только в комнате, – продолжал отец, – а во всей твоей жизни. Эта комната – точная копия твоего внутреннего мира. У тебя даже желание писать поросло бурьяном.
– А что писать? Сам видишь, что всё останавливают!
– Останавливают не только твои работы, – возразил Старик. – Знаешь, что останавливают и мои книги, и многих других людей. Однако это не повод для того, чтобы бездельничать целыми днями.
– А какая польза работать напрасно?
– Работа никогда не бывает напрасной. Она подтягивает человека, сохраняет его ум бодрым и ясным. Леность разлагает ум. Леность – это вид медленного самоубийства. Люди, которые занимаются одними пустыми разговорами, только напускают на себя умный вид. В лучшем случае они когда-то были умными. Самый верный признак того, что они перестали быть умными, – именно их пустая болтовня.
Он ничего не сказал больше, однако, собравшись было уходить, я снял пиджак и принялся за уборку. Разобрал рукописи на столе и занялся «Путешествием». Отец обладал даром внушать добрые мысли, умел заставить устыдиться самого себя и, если ты затонул в болоте, протянуть руку, но без тени милосердия или высокомерия, а так естественно, будто здороваясь.
На следующий день Старик снова появился у меня и, словно не замечая перемены в обстановке, протянул мне знакомый том. Это был «Крик о правде».
– Издатель хочет снова послать рукопись на цензуру. Думает, что на этот раз сумеет протолкнуть. Только, как ты знаешь, я перевел стихи в прозе, а он настаивает на стихотворной форме. Заплатит по самому высокому тарифу. Так что, если хочешь, берись…
Разумеется, я взялся. Да и как было не ухватиться за такую работу в это время безденежья и безработицы. Отец взял взаймы у Стояна Атанасова под всю сумму гонорара и выплачивал мне частями за перевод каждых двухсот строф. Потом уже я случайно узнал от самого издателя, что он никогда и не думал делать повторных шагов, добиваться публикации, и не выплачивал никакого гонорара за эту подозрительную книгу.
* * *
Он был беллетристом и поэтом, графиком и декоратором, историком искусства и теоретиком стилей, исследователем фольклора и философом, популяризатором науки и литературы, лектором и переводчиком. Но при всей широте своей деятельности и во всей своей деятельности он был упорным и неутомимым искателем истины. Формула «искусство для искусства» была органически чужда ему даже в те ранние годы, когда, поддавшись литературной моде, он ее исповедовал. Потому что даже в те ранние годы искусство для Старика было лишь средством достижения истины и передачи ее другим. И если в некоторых его книгах заложены идеалистические взгляды, то это произошло не из желания сеять заблуждение, а потому, что по стечению жизненных обстоятельств он был вынужден начать поиски истины со слишком отдаленной точки. И если в поисках истины он не раз ошибался, то его несомненной заслугой было то, что он умел осознавать свои ошибки и имел смелость отрекаться от того, что оказывалось ошибочным.
Возможно, он шел бы к цели быстрее и его творческие находки были значительнее, если бы он с самого начала взял правильное направление. Но так уж случилось в жизни, что когда он получил начальное образование, дед мой сказал: «Сынок, теперь позаботься о себе сам». Единственным выходом из положения, который он смог найти, оказалась Духовная семинария. Возможно, путь к истине был бы для него легче, если бы он ограничился какой-нибудь одной областью. Но его снедало лихорадочное желание везде заглянуть, а заглянув, непременно все познать. И в этом его стремлении к всеохватности, проникновению до самой сути вещей было нечто трогательное, зародыш какой-то драмы.
Периодически он целые месяцы своего рабочего времени посвящал рисованию. И, как и в других областях, ему хотелось делать то, чего еще никто не делал. Помню, что одно лето он посвятил изучению техники лаковой миниатюры. Готовых лаков у нас не было, и отец взялся за их изготовление. Для этой цели он выписал самые разные книги по технологии красок и лаков, специализированные труды, испещренные химическими формулами, разобраться в которых мог только человек, обладающий специальными знаниями в этой области. Лето давно кончилось, доставленные различными путями справочники уже заполнили этажерку, а бутылки с лаками – целый шкаф, а отец еще и не приступал к рисованию, потому что не любил начинать какое-либо дело, если оно не подготовлено самым тщательным образом.
Подготовка отняла у него больше полугода, а само рисование, наверное, еще год. Я стоял у него за спиной, наблюдая за его работой – благо он владел искусством сосредоточиваться, так что мое присутствие его ничуть не смущало. Он натягивал большой лист фольги и прикреплял уголки к толстому картону. Потом набрасывал контуры пейзажа, выдавливая краску из специально приготовленных кулечков. Потом накладывал прозрачные цветные пятна, которые как будто светились на металлическом фоне.
Из десятков свежих, сочных пейзажей сегодня мало что уцелело. К несчастью, фольга при каждом неосторожном прикосновении рвалась, и оголялся отвратительный бурый картон. Из-за отсутствия более прочной металлической основы годы труда пошли на ветер. Но отец был не из тех людей, кто жалеет свой труд.
Так же терпеливо и столь же основательно Старик стремился решить каждую задачу, которую ставил перед собой. Занявшись изучением и пересказом болгарских народных сказок, он не ограничился изданием трех томов, а сумел собрать богатство сказок всего мира в еще тридцати томах. Начав с отдельных статей по вопросам искусства, он увлекся изучением искусства всех эпох и постепенно пришел к замыслу 12-томной всеобщей истории искусств, которой отдал немало лет работы. Как-то ему предложили подготовить очерк о литературе эпохи национального Возрождения, он же расширил свою задачу до десятитомного исследования болгарской литературы, начиная с эпохи Возрождения и до наших дней. При этом десятый том не вышел только потому, что был остановлен фашистской цензурой. Стремление к всеохватности породило и проект его капитального литературного труда – серии из двадцати романов, которые должны были охватить все развитие человечества – от палеолита через все ступени цивилизации все эпохи до наших дней.
Эта романы, точнее часть из них, были действительно написаны, другие же остались в набросках или доведены до какого-то этапа. Рукописи заполняют огромный сундук, и когда я порой его открываю, мне кажется, что я заглядываю в какую-то потрясающую драму. Драму моего отца. Или, если хотите, драму поражения. Только бывают и такие поражения, которые внушают уважение бескорыстием порыва и титанизмом труда.
Эта романы Старик писал в последние годы накануне Девятого сентября. Работа заставила его сменить весь привычный уклад жизни. Он начал ложиться совсем рано – около девяти вечера, вставать затемно – в три часа утра, и по шестнадцать часов в сутки проводить за письменным столом. Он был настолько поглощен своими мыслями, что, даже когда ел, почти не слышал наших разговоров, взгляд его блуждал в пространстве или, бывало, застывал в какой-нибудь точке. Когда начались бомбардировки столицы, он не оставил своей квартиры. Я иногда забегал навестить его и не раз предлагал ему подыскать на время комнату где-нибудь в окрестных селах.