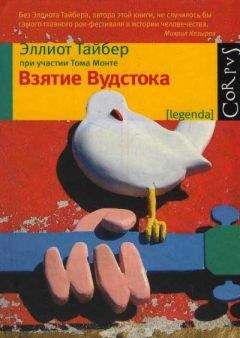Когда лев насытился созерцанием, он подошел, вытянул меня из кольца мужчин и произнес слова, полные сладкой поэзии: «Привели себя в порядок, гребаный жидок. Воняешь, как гребаный сортир» Я едва в обморок не упал от счастья. Мы вышли на улицу, он остановил такси и повез меня в «свое логово», на огромный лофт в Сохо.
Я перебрал к тому времени травки и таблеток тетрагидроканнабинола и это сделало меня чрезмерно податливым, однако от того, что я увидел в его жилище, мозги мои мигом прочистились. На одной из стен висел огромный нацистский флаг футов примерно тридцати в ширину и двадцати в высоту. Повсюду были длинные ножи и сабли. Ритуальный садомазохизм был самой предпочтительной для меня сексуальной игрой. Несколько добрых оплеух, тычков и ударов составляли ее неотъемлемую часть, однако колотые раны и настоящая кровь в мои планы не входили. А что-то сказало мне, что мой новый знакомый может этих правил и не соблюдать.
— Слушай, босс, я что-то чувствую себя не очень, — сказал я. — Я, пожалуй, пойду.
— Никуда ты не пойдешь, — ответил он и, сдернув с пояса наручники, защелкнул их на моих запястьях. А затем, натянув мне на голову кожаный капюшон, приковал меня к кровати. Я ощущал возбуждение и страх сразу, что делало секс лишь более волнующим. Им мы и занимались остаток ночи и немалую часть следующего дня, пока наркотики и усталость не свалили нас с ног.
После того, как мы вышли из нагнанного на нас сексом и наркотиками ступора, я выбрался из постели и прошелся по квартире. Если бы наркотики, желание и страх — внушенный мне, в частности, свастикой — не ослепили меня прошлым вечером, я бы наверняка заметил, что на стенах ее висят самые поразительные черно-белые фотографии, какие я когда-либо видел. Привычными их, безусловно, никто не назвал бы. Мужчины и женщины, замершие, точно их загипнотизировали, в эротических позах, многие из которых были откровенно садомазохистскими, а большая часть только-только не переступала грань приличия. Я узнал одну из моделей — поэта и певицу из Гринич-Виллидж, позже ставшей иконой панк-рока, Патти Смит.
Висели на стенах и портреты самого неласкового хозяина этого дома. Имелось также несколько обрамленных афиш, извещавших о той или иной фотовыставке. Понизу каждой стояло одно и то же имя: Роберт Мэплторп. В искусстве фотографии я ни аза не смыслил и имя это ничего мне не говорило.
— Чем ты занимаешься, босс?
— Я фотограф.
— Так ты… Роберт, — сказал я.
— Ага, — ответил он. И сдвинул большую стенную перегородку, за которой обнаружилась еще одна комната футов пятидесяти в длину, заставленная деревянными ящиками, каждый из которых был набит фотографиями. Я перебирал их и ощущал благоговение. Роберт Мэплторп — гений, понял я, тут нечего и сомневаться. Невероятная красота его снимков, их способные изменить само представление о мире ракурсы ошеломили меня. Многие из этих фотографий изображали цветы, каждый цветок стоял в маленькой вазе и купался в мягком, нежном, раскрывающем его красоту свете. Люди же были по преимуществу нагими. Мне казалось, что каждая портретная фотография открывала душу изображенного на ней человека — этот полон силы, словно закован в броню, воинственен; а этот весь открыт взглядам, уязвим и испуган. На многих снимках мужчины предавались любви — эти фотографии были совершенно свободными и до крайности революционными. Они изображали половые акты, которые гомосексуалисты совершают едва ли не каждый день, и само существование которых отрицается обществом в целом, как отрицаются им и геи. Мэплторп вытащил гомосексуальность — а следовательно, и саму жизнь геев — из темного чулана и показал ее миру. Каждый его снимок свидетельствовал о несомненной отваге, непоколебимом нежелании быть отброшенным на обочину жизни, отвергнутым. Я понимал, что Роберт — это художник, способный одной-единственной фотографией встряхнуть мир, изменить принятый им способ восприятия и бросить вызов давнишним верованиям.
В конце концов, он вырвал меня из грез, в которые я погрузился.
— Я хочу снять тебя, — сказал он.
— Хочешь? Зачем? — спросил я.
— Хочу, чтобы ты попозировал мне в гестаповской форме.
— Нет, босс, не стоит, — ответил я.
— И ты это сделаешь, — заявил он твердым, как гранит, тоном.
Да, назвать наши отношения союзом, заключенным на небесах, было нельзя.
— Может, ты как-нибудь съездишь со мной на выходные в Уайт-Лейк? — предложил я.
— Я не знаю, где это, — ответил он, негромко и пренебрежительно.
— В паре часов езды на север по нью-йоркской магистрали. У нас там мотель, — ничего особенного, но место уединенное, тихое.
— Ты не понял, — сказал он. — У меня другие планы, и приятельские отношения с тобой в них не входят. Я не хочу ничего знать ни о вашем долбаном мотеле, ни о твоей жизни. Ты вообще не в моем вкусе.
Чем наше едва начавшееся знакомство и завершилось.
Несколько месяцев спустя я увидел в «Виллидж Войс» и «СоХо Ньюс» посвященные Роберту статьи. Он боролся с цензурой, наложившей запрет на его фотографии. Прочитав эти статьи, я съездил в центр города, в галерею, которая выставляла работы Роберта. Он видел, как я вхожу в нее, но смотрел на меня, точно на человека, которого никогда прежде не встречал.
Примерно так же складывалась и вся остальная моя сексуальная жизнь. Люди, с которыми я ложился в постель, сталкиваясь со мной при свете дня, неизменно делали вид, что ничего между нами не было. Так повелось с самого моего детства.
Когда мне исполнилось одиннадцать, я начал выскальзывать в дневное время — а иногда и ночами — из дома, чтобы сходить в кино. Я доезжал подземкой от Бруклина до манхэттенской Таймс-Сквер, на которой стояли десятки круглосуточных кинотеатров. Для моего возраста я был высок и легко сходил за шестнадцатилетнего юношу — впрочем, возраст мой никого, похоже, не волновал. Я покупал билет и смотрел любые фильмы, какие хотел посмотреть, — фильмы, в которых играли Лорел и Харди, Эбботт и Костелло, братья Маркс, Бетти Грейбл и Кармен Миранда.
В 1940-е и 50-е кинотеатры Таймс-Сквер были большими, богато изукрашенными дворцами — изначально в них ставили пьесы, а фильмы начали показывать позже. В залах имелись огромные балконы или бельэтажи, способные вместить сотню человек. Вдоль стен, примерно на одном расстоянии от пола и потолка, располагались ложи, также изукрашенные — золотыми листьями, рельефными львиными головами и прочим. Экран был огромным — просторная белая стена, в два-три раза превосходившая размерами многие из нынешних экранов. Один билет давал тебе право посмотреть два фильма, плюс киножурналы и мультфильмы. Ты мог провести там, просматривая игровые и мультипликационные фильмы, изрядную часть дня или ночи.
Как-то раз на смежное с моим сиденье уселся мальчик, живший по соседству со мной, — Фрэнк, он был года на два старше меня. Меня он, похоже, не признал, смотрел только на экран. Я не придал его появлению никакого значения и продолжал следить за развитием фильма. Однако, вскоре я краешком сознания заметил, что Фрэнк придвинулся ко мне и нога его трется о мою ногу. Я не обращал на это внимания, пока не обнаружил, что рука Фрэнка лежит на внутренней стороне моего бедра. Потом он убрал руку и вроде бы занялся чем-то другим. А потом повернулся ко мне и показал раскрытый карманный нож.
— Ты просто сиди, Элли, и помалкивай, — сказал он.
Я замер. Он спрятал нож, снова повернулся к экрану, положил руку мне на пах. Потом расстегнул на моих штанах молнию и начал ласкать меня. Я испытывал ужас. Что происходит? И что мне делать? Этот мальчишка жил рядом со мной. Если я убегу, он при следующей нашей встрече поколотит меня. Скоро страх начал смешиваться со странным удовольствием, которого я не понимал. Развивался я медленно, о сексе решительно ничего не знал. Я даже не мастурбировал до этого ни разу, но теперь Фрэнк мастурбировал меня, и тело мое отзывалось на его манипуляции. Скоро я кончил, а Фрэнк встал и ушел, даже не взглянув на меня. Брюки мои немного намокли спереди, а почему, я не знал. Первая, пришедшая мне в голову мысль: это кровь — ужаснула меня. Думаю, я просидел там, потрясенный, совершенно сбитый с толку, не знающий, как мне быть, около часа. Наконец, появилась и посветила мне в лицо фонариком капельдинерша. А из-за ее спины донесся голос отца: «Что ты здесь делаешь, Элли? Твоя мать, она сходит с ума от тревоги. Где мой сын? — спрашивает она.»
Он отвел меня домой, выпорол и отправил в постель. У себя в комнате я разделся и, обнаружив, что никакой крови на штанах моих нет, облегченно вздохнул. Потом тайком спустился в подвал. Там у нас стояли старые угольные печи с фронтальной загрузкой. Я открыл одну, горящую, бросил в огонь мои брюки и трусы, а после прокрался наверх, принял душ и, наконец, лег спать.