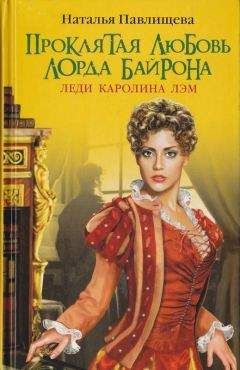Чьи-то губы еще сдавливали мои, и я чувствовал боль исступленного укуса, который был, быть может, судорогой умирающего. Я еще держал в руках чье-то тело, холодевшее от упоения или от смерти. Потом темный удар в голову уронил и меня в груду тел, к братьям и сестрам.
Последнее, что я видел, был образ нашего Символа. Последнее, что я слышал, был возглас Феодосия, повторенный тысячами эхо не под сводами храма, но в бесконечных переходах заливаемой сумраком моей души:
– В руки твои предаю дух мой!
1906
[4]
IНикто не знал его прошлого, а люди из Хунты[5] и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона – одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.
На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут
Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все – ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах – привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.
Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что – они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.
– Отлично, – холодно произнес он, – ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.
– Это для революции? – спросил мальчик.
– Да, для революции, – отвечал Паулино.
Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.
– Хорошо, – сказал он.
И ничего больше. День за днем он являлся на работу – подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.
– Можно мне переночевать здесь? – спросил он однажды.
Ага! Вот они и обнаружились – когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты – значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике.
Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:
– Я работаю для революции.
Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции – вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.
– Уж не проклятое ли это золото Диаса? – сказал Вэра товарищам.
Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.
И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.
– Возможно, великий и одинокий дух… не знаю, не знаю! – Ареллано беспомощно развел руками.
– В нем есть что-то нечеловеческое, – заметил Рамос.
– В его душе все притупилось, – сказала Мэй Сэтби. – Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.
– Ривера прошел через ад, – сказал Паулино. – Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.
И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь – неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, – покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.
– Он не шпион, – заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби. – Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.
– У него дурной характер, – сказала Мэй Сэтби.
– Да, – ответил Вэра и вздрогнул. – Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он – дыхание смерти.
И однако Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.
Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.
– Я говорил вам, – сказал Вэра. – Больше чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он – карающая десница.
Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там – во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.