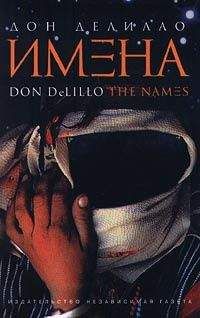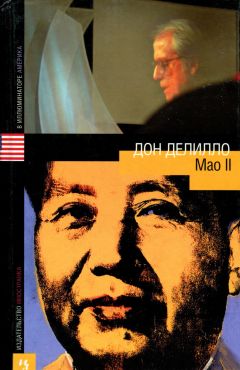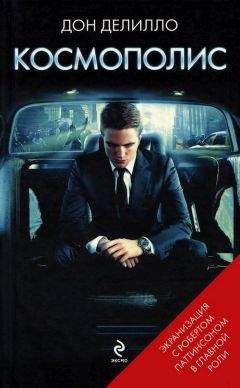В его речи много остановок. Все обещания разделены паузами. Он создает напряженность, ожидание. Струи дождя омывают пшеничные нивы. Дайте же мне услышать этот прекрасный журчащий поток, говорит он. И смотрит на них, теперь уже с молчаливой настойчивостью. Кто-то пробормотал что-то, мужчина в переднем ряду. Небо раскрылось, говорит проповедник. Дождь нисходит на нас.
Он движется между ними, трогая одного за плечо, другого за голову, чуть ли не теребя их, напоминая о том, что они забыли или намеренно решили не замечать. Дух уже рядом. Покажите мне, где в Писании говорится, что мы должны свободно беседовать с Богом именно по-английски. Смешно, ответите вы. Нет такого места. Павел в Послании к коринфянам сказал, что люди могут говорить на языке ангелов. И мы в свое время подтвердим его правоту.
Дай волю своим устам. Свяжи старый язык и освободи новый.
Мальчик заворожен напором и решимостью молодого человека. Его речи ошеломляющи, неотразимы. Мальчик слушает его чистый голос, смотрит, как он закатывает рукава и кисть его начинает метаться туда-сюда, касаясь людей, сжимая их плечи, с силой встряхивая. Мать Оуэна, зачарованная, тихо приговаривает на скамье: Боже-Боже-Боже. Вот впереди кто-то зашевелился, в воздух взлетела чья-то рука. Проповедник оборачивается, идет к алтарю, на ходу говоря с человеком, увещевая его. Он не спешит, не повышает голоса. Шум и спешка лишь в голове Оуэна. Проповедник вновь поворачивается лицом к пастве, смотрит, как человек в переднем ряду встает на ноги. Отец Оуэна встает на ноги.
Увлажнитесь, говорит проповедник. Дайте мне услышать журчанье ручья. О чем я говорю, если не о свободе? Будьте собой, вот и все. Будьте свободны в Духе. Позвольте Духу разбить ваши оковы. Вы начинаете, Дух подхватывает. Это самая легкая вещь на свете. Так смелее же, увлажнитесь. Я слышу в вас Дух Божий, слышу его томление. Пусть же он выйдет наружу и потрясет вас. Приготовьтесь, он совсем рядом, он за ближайшим углом, он несется по быстрине, с ним уже не совладать. Я хочу услышать этот прекрасный журчащий ручей.
Тишина. Ожидание почти невыносимо. Мальчик буквально скован. Похоже, что время останавливается вместе с проповедником. Когда он заговаривает, все вокруг начинает шевелиться, двигаться и жить. Только его голос может подтолкнуть собрание вперед.
Пришла пора увлажниться, говорит он. Увлажните уста.
В своем закроме, в этой перевернутой лунной урне, он задумался о значениях экстаза, смотри греческий: смещение, выход из ступора. Так оно и было. Свобода, побег из условий идеального равновесия. Обычное понимание преодолено, «я» и его механизмы забыты. Не это ли и есть невинность? Не на языке ли невинности говорили те люди, выплевывая слова, точно камешки? Глубокое прошлое нашей расы, прозрачное слово. Не его ли они жаждали, заполняя мир своей ужасной священной болтовней? Стать детьми человечества. Заснуть. Кануть в сон, как усталые дети под огромной белой волной простыни. Он и сам уморился. Утомленный, смежил веки. Еще немного, еще чуть-чуть. Сейчас необходимо было вспоминать, длить эту грезу о первобытной земле.
Его отец стоит прямо, закрыв глаза, и говор льется из него, удивительно спокойный и размеренный. Оуэн видит, как проповедник подходит ближе. У него странный и ясный взгляд. Мощные предплечья, переплетенные темными жилами. Повсюду ликование и голоса, всплески голосов, движение там и тут. Эта речь прекрасна по-своему, перевернута, нерасчленима, она словно отсутствует. Она как бы не совсем здесь. Она течет сквозь и над. Проповедник изредка роняет поощрительные фразы, отмечая то, что он видит и слышит. Он говорит об этих поразительных вещах вполне буднично.
Они были простые и откровенные люди, думает человек, скорчившийся в темноте. Они заслуживали лучшего. Чтобы примириться с крахом и истощением, им довольно было этого убогого прибежища на ветру. Они были славные люди и старались найти дорогу в жизни, руководимые искренней добротой и любовью.
Кромки облаков горят неоном. Металлический свет падает на скудные пастбища, на ровные далекие поля, на педантичные руины старых городов.
Благослови их.
«Благослови их».
Он сидел в своей маленькой комнатке не шевелясь, глядя в стену. Взгляд его еще был устремлен в прошлое, в воспоминания, голова склонена к правому плечу. Лицо точно светилось изнутри — я читал на нем полнейшую отстраненность человека от его физического состояния, безоговорочное приятие, сокрушительную веру в то, что ничего уже нельзя сделать. Неподвижность. Рассказ слился с событием. Мне пришлось напрячься, чтобы сообразить, где мы.
— Вы оставались в бункере всю ночь.
— Да, конечно. А зачем мне было выходить — чтобы посмотреть, как они его убивают? Эти убийства — насмешка над нами. Насмешка над нашей тягой к порядку и классификации, над нашим стремлением оградиться системой от ужаса в наших душах. Они приравнивают систему к ужасу. Средство борьбы со смертью оборачивается смертью. Разве я не знал этого прежде? Понадобилась пустыня, чтобы это стало для меня ясным. Простым и ясным ответом на вопрос, который вы задавали раньше. Сегодня все вопросы получают свои ответы.
— Ради этого и возник культ, ради этой насмешки?
— Конечно, нет. Они ничего не подразумевали, ничего не имели в виду. Они просто сравнивали буквы. Какие прекрасные имена. Хаба-Мандир. Хамир Мазмудар.
Веник из прутьев. Приглушенные тона подушек и ковров. Расположение предметов. Щели между половицами. Шов на границе света и тьмы. Приглушенные тона кувшина с водой и деревянного сундука. Приглушенные тона стен.
Мы сидели, наблюдая, как темнеет в комнате. Я пытался оценить, сколько времени должно пройти, прежде чем он сумеет закончить, прежде чем тишина будет нарушена. Вот что помогали мне понять вещи в комнате и расстояния между ними, та сознательная уравновешенность, которую он вложил в свое предметное окружение. Я учился тому, когда надо говорить и как.
— Постарайтесь закончить, — мягко сказал я.
Два испачканных кровью камня были найдены рядом с телом на окраине древнего городка — их нашла женщина, вышедшая по воду с первыми лучами солнца, или мальчишки по дороге в поля. К тому часу трое мужчин уже направлялись на запад, оставив позади женщину в коме и двух других мужчин, один из которых был мертв, а второй просто сидел неподвижно. Спустя недолгое время рядовой полицейский, а потом чин постарше добрались по еле заметной тропинке до глиняных хранилищ, чтобы допросить единственного из тамошних обитателей, находящегося в здравом уме. Он сидел в пыли, синеглазый, с редкой бородой, без документов и денег, и, наверное, пытался говорить с ними на каком-нибудь диалекте северо-западного Ирана.
Беглецы расстались без единого слова в дикой приграничной области. Тот, что был одет по-западному, с котомкой за плечами, имел в паспорте визу, действительную еще в течение нескольких месяцев. Там стояла печать второго секретаря Пакистанского посольства в Афинах, Греция, а над печатью — аккуратно выписанные инициалы этого господина.
Любопытно, как он решил закончить — в безличной манере, вглядываясь точно издалека в этих непостижимых людей, в эти фигуры, различимые лишь по одежде. Больше никаких комментариев и рассуждений. И это сразу показалось мне вполне логичным. Я не хотел рассуждать дальше, хоть с Оуэном, хоть без него. Достаточно было смотреть, как он сидит с совиными глазами в комнате, которую готовил для себя всю жизнь.
Снаружи было шумно и людно. На веревках, протянутых над лотками с орехами и пряностями, сверкали голые лампочки. Через каждые несколько шагов я останавливался посмотреть на товары: здесь были мускатный орех и его сушеная шелуха, джутовые мешочки с семенами кориандра и чилийским перцем, с кусками каменной соли. Я медлил у подносов с красителями и молотыми специями, сложенными в пирамиды, перед цветовыми оттенками, которых никогда не видел, среди всех этих загадочных миров, пока наконец мне не настала пора уходить.
Я покинул старый город с чувством, будто мне только что довелось принять участие в удивительном состязании, подействовавшем на меня необычайно благотворно. Сколько бы ни потерял он жизненных сил, я окреп в той же мере.
Ставни опущены, белье в абсолютной неподвижности висит на террасах и крышах. Мертвый покой, объявший улицы, кажется результатом некоего общего соглашения. Такое бывает в иных городах — в определенные часы все исчезают, точно сговорившись. Город низводится до поверхностей, пластов света и тени. Одинокому человеку, бредущему по тротуару, эта тишина представляется нарочитой, он чувствует за ней коллективную волю. В этом стремлении набросить на город временные чары сквозит что-то ритуальное, освященное давним обычаем.