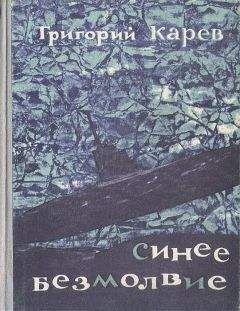— А дор — это вот он весь, дор-то. Все, что вокруг деревни, — это все и есть дор.
Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем — лес.
— Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.
— Это и есть дор. Чистый весь, глянь-ка. Это все дор, а уж там, где елочки, — это все бор.
Так я и понял, что дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдергивали. Дергали, дергали — получился дор.
— Ну ладно, — сказал я, — дор так дор, а мне надо дальше идти.
— Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.
Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.
— Куда ж ты? — говорила Пантелевна и на следующее утро. — Живи-ка тут. Места в избе хватит.
Я подумал-подумал, послал, куда надо, телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у нее не день и не месяц, а целый год.
Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую.
Эту-то я пишу в Москве, гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.
С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.
Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.
День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг о друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле.
Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то все кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.
Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей.
У ручья я увидел Нюрку.
Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся ее портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья.
— Закусываешь? — спросил я, сбрасывая с плеч корзину.
— Воду пью, — ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.
— Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.
— Спасибо, не надо, — ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.
— Ты чего невеселая? — спросил я.
— Так, — ответила Нюрка и пожала плечами.
— Может, двойку получила?
— Получила, — согласилась Нюрка.
— Вот видишь, сразу угадал. А за что?
— Ни за что.
Она снова глотнула воды и закрыла глаза.
— А домой почему не идешь?
— Не хочу, — ответила Нюрка, не открывая глаз.
— Да съешь ты хлеба-то.
— Спасибо, не хочу.
— Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так и не пойдешь домой?
— Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.
— Из-за двойки?
— Нет, не из-за двойки, еще кое из-за чего, — сказала Нюрка и открыла наконец глаза.
— Это из-за чего же?
— Есть из-за чего, — сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.
— Ну расскажи.
— Не твое дело.
— Ну и ладно, — сказал я, обидевшись. — С тобой по-человечески, а ты… Ладно, я тоже тогда лягу и умру.
Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Еще бы часок, полтора.
— Тебе-то из-за чего умирать? — спросила Нюрка.
— Есть из-за чего, — ответил я. — Хватает.
— Болтаешь, сам не зная… — сказала Нюрка.
Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.
А день кончался. Давно уж миновал полудень, начинался закат.
Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт. Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.
Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.
— Ты бы заплакал, если б я умерла? — спросила вдруг Нюрка.
Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.
— Да ты что, заболела, что ли? — забеспокоился наконец я. — Что с тобой?
— Заплакал бы или нет?
— Конечно, — серьезно ответил я.
— А мне кажется, никто бы и не заплакал.
— Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.
— За что меня любить? Что я такого сделала?
— Ну, не знаю… а только все любят.
— За что?
— Откуда я знаю, за что. За то, что ты — хороший человек.
— Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.
— А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рев стоял? — сказал я.
Нюрка засмеялась.
— Это правда, — сказала она. — Рев был бы жуткий.
— Давай уж поживем еще немного, а? — предложил я. — А то деревню жалко.
Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.
— Открывай, открывай глаза, — сказал я, — пожалей деревню.
— Так вкусней, — сказала Нюрка.
— Чего вкусней? — не понял я.
— С закрытыми глазами вкусней, С открытыми всю воду выпьешь — и ничего не заметишь. А так — куда вкусней. Да ты сам попробуй.
Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.
Вода в ручье была студеной, от нее сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:
— Погоди, не торопись. Глотни еще.
Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот, долгих дождей и летних гроз.
Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга. Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы — времени, когда вода закрывает глаза.
Фрагменты пергамента
Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана.
Наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии.
— Фок-стаксели травить налево! — раздалось с капитанского мостика.
Вмиг оборвалось шестнадцать храпов и тридцать три мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю.
Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в свое одеяло.
— Это становится навязчивым, — недовольно шепнул мне наш капитан сэр Суер-Выер.
— Совершенно с вами согласен, кэп. Невыносимо слушать этот шелест одеял.
— Шелест? — удивился капитан. — Я говорю про тридцать третью подошву. Никак не пойму, откуда она берется.
— Позвольте догадаться, сэр, — сказал лоцман Кацман. — Это одноногий призрак^ Мы его подхватили на отдаленных островах вместе с хеймороем.
— Давно пора пересчитать подошвы, — проворчал старпом. — Похоже, у кого-то из матросов одна нога раздваивается.
— Эх, Пахомыч, Пахомыч, — засмеялся капитан. — Раздваиваются только личности.
— Но, извините, сэр, — заметил я. — Бывают на свете такие блуждающие подошвы. Возможно, это одна из них.
— Подошвы обычно блуждают парами, — встрял Кацман. — Левая и правая. А эта вообще не поймешь какая.
— Вероятно, она совмещает в себе левизну и правоту одновременно, — сказал я. — Такое бывает в среде подошв.
— Не знаю, зачем нам на «Лавре» блуждающая подошва, — сказал старпом. — Ничего не делает по хозяйству, только зорю и выбивает. Найду, нащекочу как следует и за борт выброшу!
— Попрошу ее не трогать, — сказал капитан. — Не так уж много на свете блуждающих подошв, которые охотно выбивают зорю. Если ей хочется, пускай выбивает.
По мудрому призыву капитана мы не трогали нашу блуждающую подошву и только слушали по утрам, как она выбивает зорю. Чем она занималась в другое время суток, мне неизвестно. Наверное, спала где-нибудь в клотике.
Боцман однажды наткнулся случайно на спящую блуждающую подошву, схватил ее и дал по шее подошвой зазевавшемуся матросу Веслоухову. Но потом аккуратно положил ее обратно в клотик.
ОСТРОВ ВАЛЕРЬЯН БОРИСЫЧЕЙ
— Остров Шампиньонов мы уже открыли, — сказал как-то Суер-Выер. — А ведь надо бы еще какой-нибудь открыть! Да вон, кстати, какой-то виднеется. Эй, Пахомыч! Суши весла и обрасопь там, что надо обрасопить!