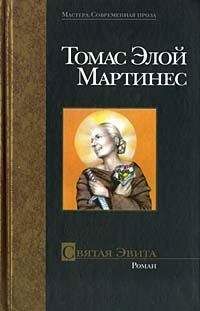Около полуночи он поцеловал Ее в лоб, подложил под Ее босые ноги пачку школьных тетрадок и рукопись «Моего послания» и приколотил крышку гроба гвоздями, чтобы защитить Ее от подземных тварей и от любопытства кошек. Вначале, когда он опустил Ее в могилу и стал засыпать остатками очага — сгнившими поленьями, кирпичами, шинами и даже искусственной челюстью, возможно принадлежавшей дедушке, — он почувствовал желание плакать и попросить прощения в последний раз. Но потом внутри у него словно открылся оазис, пришло облегчение. Раз он уже не может защищать Ее, Эвите будет лучше здесь. Теперь один он знает этот тайник, один он сумеет Ее отсюда забрать, и это знание может стать для него щитом. Если в Буэнос-Айресе захотят снова Ее увидеть, им придется его просить на коленях.
На рассвете он добрался до Кобленца, к югу от Бонна. Снял номер в мотеле, помылся, сменил белье. Грызущая боль в спине чудесным образом начала стихать, и солнечный луч, заглянувший в окно, был какого-то незнакомого, чистого цвета, словно из другого мира. Когда опять рассветет, он уже будет в Буэнос-Айресе. Неизвестно, с каким городом он встретится. Неизвестно, стоит ли город на том же месте, где он его оставил. Быть может, город ушел со своей сырой равнины и теперь растет рядом с каким-нибудь очагом, на берегу реки Альтмюль.
Об этих последних этапах истории мне рассказал Альдо Сифуэнтес. Однажды в воскресное утро мы разложили на письменном столе карточки и прочие бумаги Моори Кёнига и проследили его перемещения по атласу Хаммонда 1958 года, который Сифуэнтес приобрел на ярмарке в Сан-Тельмо. Когда мы начертили его маршрут красным карандашом, меня удивило, что Полковник больше двадцати часов маневрировал по дорогам Германии, не поддаваясь пыткам люмбаго.
— Ему уже все было нипочем, — сказал Сифуэнтес. — Он перестал быть тем, кем был. Он превратился в мистика. Когда мы с ним года два-три назад встретились, он повторял: «Персона — это свет, до которого никто не способен подняться. Чем меньше я его понимаю, тем больше верю». Фраза придумана не им. Это сказала святая Тереза.
— Так он, стало быть, умер, не зная, что похоронил не Эвиту, а одну из копий.
— Нет. Ему все сказали. С ним обошлись жестоко. Когда он прилетел в Буэнос-Айрес, его ждали там Короминас, Фескет и эмиссар военного министра. Его привели в служебное помещение аэропорта и там открыли ему, что он попал в ловушку. Сперва Моори Кёниг опешил. Он едва не лишился чувств. Потом решил не верить им. Это убеждение придало ему силу продолжать жить.
— А что там делал Фескет? — спросил я.
— Ничего. Он был просто свидетелем. Прежде он был жертвой Полковника, теперь стал его Немезидой. Сбежав с Гербертштрассе, Фескет сел на первый же самолет в Буэнос-Айрес. Он уже был там, когда военный министр отправил Моори телеграмму с приказом возвратиться.
— Я не понимаю, зачем было делать столько телодвижений. Почему не уволили Полковника сразу, и тем бы все кончили. Зачем ему посылали куклу.
— Надо было его разоблачить. Моори создал внутри армии целую сеть сообщников. Он знал много постыдных секретов и постоянно угрожал их опубликовать. В аэропорту Короминас ему сказал, что они обнаружили метку за ухом Покойницы и что Ара нанес такую же метку на одну из копий. В этот момент Моори еще не мог знать, обманывают его или нет. Он был ошеломлен, растерян, страдал от унижения и ненависти. Хотел отомстить, но не знал как. Ему надо было прежде узнать истину.
— А может быть, они ошиблись, — сказал я. — Может быть, тело, которое Полковник похоронил в хижине, было телом Эвиты, и тогда больше не о чем говорить. Чего ты смеешься, че? Это была бы вполне аргентинская путаница.
— Короминас не мог совершить такую серьезную оплошность. Это погубило бы его карьеру. Вообрази такой скандал: труп Эвиты, оставленный армейцами в витрине со шлюхами на другом берегу океана. Хохот Моори Кёнига звучал бы до страшного суда. Нет, дело было не так. Короминас поставил комедию ошибок, но не ту, о которой ты думаешь. Неясно, почему он это сделал. Неясно, какие тайные счеты он сводил с Полковником в этот момент. Ни один из двоих никогда не произнес ни слова против другого.
— Я как святая Тереза: я тебе верю, но не понимаю. Что произошло с остальными — с валькирией и с гигантами в котелках?
— Все они были персонажами одного и того же спектакля. Человек, изображавший капитана «Кап Фрио», похитители на голубом «опеле», охранники на Гербертштрассе. Всех их купили за некую толику марок.
— Полковнику, во всяком случае, оставалось утешение, что ему нанесли поражение искусным вымыслом. Кто сочинил либретто?
— Его сочинил Короминас. Но Моори никогда не хотел этого признать. Он настаивал на том, что настоящая Эвита была та, у реки Альтмюль, и что он Ее утратил еще раз. После встречи в аэропорту ему пришлось вернуться в Бонн, но уже отправленным в отставку, собрать свои бумаги и оставить тамошний дом. То был последний раз, когда он ощутил чувство собственного достоинства и, быть может, величие. Он никому ничего не сказал. Дал жене инструкции и необходимые для возвращения в Буэнос-Айрес деньги, сложил в баул документы, которые ты сейчас видишь в этой комнате, и вернулся в хижину, принадлежавшую его деду и бабке, между Айхштеттом и Плунцем, чтобы отхопать Эвиту. Он ее не обнаружил.
Сифуэнтес встал на ноги.
— Ох, это неуловимое тело Эвиты, — сказал я. — Тело-кочевник. Вот в чем таилась погибель Полковника.
— Возможно, — сказал Сифуэнтес. — Но не забывай — то не было подлинное тело. И место он не нашел. Вернее, его роком было выбирать места, которые исчезали. Когда он туда приехал, участка стариков уже не существовало — сплошное болото да комары. Вода уничтожила все приметы. Оставались, правда, еще непобежденные столбы фасада и заржавевшие остатки очага. Набитая камнями покрышка навела его на мысль, что именно в этом месте он выкопал могилу. В отчаянии он стал копать ее во второй раз. Туда-то и провалился гроб — был он без крышки и, как можно было предположить, без тела. Когда Полковник попытался втащить гроб, стены ямы обвалились. Гроб так и остался стоять в вертикальном положении, среди корней и ила торчал лишь его торец.
Сифуэнтес ушел, я остался один и мог провести остаток утра, читая донесения, которые шпион Полковника по кличке Ясновидец посылал в Бонн из Сантьяго-де-Чили. Первое, что я заметил, — в этих бумагах был связный рассказ. Иначе говоря, источник мифа — или, вернее, точка на пути мифа, где миф и история расходятся в стороны, а посередине остается нетленное, горделиво вызывающее царство вымысла. Но то, что я читал, не было вымыслом — это было начало правдивой истории, которая, однако, казалась выдумкой. Тут я понял, почему Полковник презирал эти донесения, — он им не верил, он их не видел. Единственное, что его интересовало, была умершая, а не ее прошлое.
«Вспомните, Полковник, тонкие губы доньи Хуаны, — писал Ясновидец. — Представьте ее себе, когда она говорит. Вспомните ее седые волосы с голубоватым отливом, круглые, живые глаза, запавшие щеки — никакого сходства с Эвитой, ни малейшего, словно дочь родилась сама по себе».
Я разложил бумаги по порядку и начал их переписывать. Конца не было видно. Кроме донесений из Сантьяго-де-Чили, Моори коллекционировал сплетни крупье, акты гражданского состояния и исторические изыскания газетчиков Лос-Тольдоса. В конце концов я только переписал несколько абзацев связного текста. Из других документов сделал краткие выписки и подобрал фрагменты диалогов. Через несколько лет, когда я задумал переписать начисто эти заметки и превратить их в начало биографии, я переключился на рассказ от третьего лица. Где мать говорила: «С той поры как Эвита появилась на свет, я много страдала», мне хотелось написать: «С тех пор как Эвита появилась на свет, ее мать, донья Хуана, много страдала». Это было не одно и то же. Получалось даже нечто противоположное. Без голоса матери, без ее пауз, без ее манеры видеть эту историю, слова уже ничего не значили. Мне редко приходилось столько воевать с сущностью текста, который хотел быть рассказанным в женском роде, между тем как я жестоко искажал его природу. И никогда я столько раз не терпел неудачу. Я долго не соглашался с тем, что лишь когда голос матери подчинит меня, получится рассказ. Я позволил ей говорить через меня. И только тогда я услышал то, что писал.
«С тех пор как Эвита появилась на свет, я много страдала. Дуарте, мой муж, который до этого был внимательным и уважительным, стал замкнутым, скрытным. Как вы знаете, у нас уже было четверо детей, и на рождении этого последнего ребенка настояла я, а не он. „Она появилась не от любви, — говорил муж. — Она появилась от привычки“. Возможно, что я слишком далеко зашла в моем стремлении его удержать. Возможно, он меня уже не любил или ему внушили, что он уже меня не любит. В Лос-Тольдосе он стал бывать только изредка, проездом, когда выезжал по делам. Стучался в дом, просил разрешения войти, как чужой, и молча соглашался выпить чашечку-другую мате. Потом начинал вздыхать, подавал мне конверт с деньгами и, качая головой, уходил. Всегда было одно и то же. Эвиту он видел так мало, что если бы встретил ее где-нибудь среди поля, то не узнал бы.