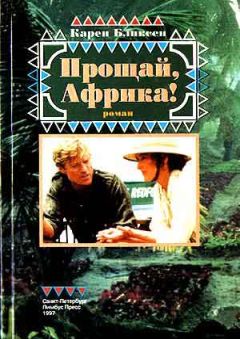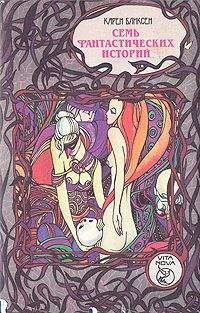Это решение было встречено на ферме с глубоким чувством, но в полном молчании. По лицам кикуйю совершенно невозможно угадать — то ли они всегда верили в благоприятный исход дела, то ли с самого начала оставили всякую надежду. Но стоило решить главный вопрос, как они тут же засыпали меня множеством замысловатых требований и предложений, слушать которые я наотрез отказалась. Они все еще слонялись возле моего дома, наблюдая за мной, но уже другими глазами. Туземцы так почитают фортуну, так верят в судьбу, что теперь, после бесспорного успеха, они могли вновь поверить, что все пойдет хорошо и я останусь на ферме.
Что же касается меня, то устройство судьбы скваттеров послужило мне большим утешением. Мне редко выпадало в жизни такое чувство удовлетворения.
И вот тогда, спустя два или три дня, я почувствовала, что моя работа в этой стране завершена, и теперь я могу уезжать. Урожай кофе на ферме был собран, мельница остановилась, дом мой был пуст, и скваттеры получили обещанную землю. Период дождей миновал, и молодая трава высоко поднялась на равнинах и на склонах холмов.
Составленный мной в начале стратегический план — уступать во всех мелочах, чтобы удержать то, что было для меня важнее всего в жизни, оказался неудачным. Я добровольно согласилась отдавать все, что у меня было, одно за другим, как бы выкупая свою жизнь, но когда у меня совсем ничего не осталось, я сама стала легчайшей из всех вещей; теперь судьбе ничего не стоило избавиться и от меня.
В те ночи всходила полная луна и светила прямо в опустошенную комнату, бросая на пол тень оконных рам. Мне подумалось: наверно, луна заглядывает сюда и хочет спросить, долго ли я собираюсь оставаться в доме, откуда все исчезло.
— О нет, — отвечала луна. — Время — такая малость. Мне хотелось бы задержаться, пока я не увижу, как мои скваттеры устроятся на новом месте. Но на это нужно было время, и никто не знал, когда им можно будет переселяться.
В это время до меня дошли слухи, что старики из окрестных деревень решили устроить в мою честь большие танцы, Нгома.
В былые времена Нгома была великим праздником, но теперь от этих танцев практически отказались, так что за все время, пока я жила в Африке, я их ни разу не видела.
А мне очень хотелось увидеть Нгому своими глазами — кикуйю рассказывали о ней легенды. Было сочтено большой честью для нашей фермы, что старики выбрали ее местом для своих танцев, и мои люди говорили об этом задолго до назначенного срока.
Даже на Фараха, который пренебрежительно относился к танцам туземцев, решение стариков произвело должное впечатление.
— Это очень старые люди, мемсаиб, — сказал он. — Старые-престарые.
Было весьма непривычно слышать, как молодые львы из племени кикуйю говорили о предстоящем выступлении старых танцоров почтительно, даже благоговейно.
Но одного я не знала об этих Нгома — а именно, что они строго-настрого запрещены правительством колонии. Я не знаю и причины запрета. Кикуйю, конечно, об этом знали, но почему-то решили на этот раз пренебречь запретом: то ли рассудили, что во времена великих смут можно позволить себе то, что в обычное время не разрешается, то ли и вправду позабыли об указе, настолько сильны были чувства, разбуженные ожиданием праздника. Они даже не держали приготовления в тайне.
Когда старики-танцоры явились, нам предстало редкостное, возвышенное зрелище. Их было около ста человек, и все они пришли одновременно — должно быть, сначала собрались где-то поодаль от дома. Старики-туземцы становятся зябки, и обычно кутаются до ушей в шкуры и одеяла, но на этот раз они пришли нагие, словно торжественно несли великую истину. На них было немного украшений, и боевая раскраска не казалась кричащей; лишь у некоторых из них на высохших лысых головах красовались громадные головные уборы из черных орлиных перьев, как на головах молодых танцоров. Но украшения были им не нужны, они и так производили потрясающее впечатление. В отличие от престарелых красавиц на европейских балах, они не тщились выглядеть помоложе — весь смысл, вся значительность танца и для них, и для зрителей была именно в глубокой старости танцоров. Они были украшены диковинными метинами, каких я до сих пор не видала: на их высохших, искривленных руках и ногах были проведены белым мелом продольные полосы, словно в своей беспощадной правдивости они подчеркивали хрупкость костей и негибких суставов под темной кожей. Их медленное, как вступление к танцу, приближение сопровождалось такими странными движениями, что я могла только гадать, какой танец они мне покажут.
Пока я стояла и смотрела на них, меня охватила странная, уже не раз посещавшая меня иллюзия: не я ухожу, потому что я не в силах расстаться с Африкой — нет, сама страна медленно, с суровой торжественностью отступает от меня, как море во время отлива. И странная процессия, шествующая сюда — на самом деле состоит из моих сильных, юных танцоров с упругими мускулами, которых я видела вчера и позавчера, но они усыхают у меня на глазах, они уходят от меня навсегда. Они уходили посвоему, почти неприметно, в танце, и мой народ был со мной, а я-с ним, и все были довольны и счастливы.
Старики молчали, даже между собой не переговаривались — берегли силы для предстоящего испытания.
Но в ту минуту, когда танцоры уже заняли места и готовы были начать танец, ко мне в дом явился аскари из Найроби с письмом, в котором предписывалось отменить Нгому.
Я ничего не могла понять, письмо застало меня врасплох, и пришлось перечитать его два или три раза. Принесший письмо аскари был настолько подавлен величием празднества, которое он испортил, что ни слова не сказал ни старикам, ни моим домашним, и вообще вел себя совсем не так, как свойственно аскари, которые любят показать свою власть над остальными туземцами не бахвалился, не красовался, был тише воды, ниже травы.
За всю мою жизнь в Африке мне не приходилось переживать более горьких минут. Ло тех пор я не знала, что у меня в сердце может подняться такая буря возмущения против того, что со мной происходит. Говорить я и не пыталась; я давно поняла всю тщету слов.
Старики кикуйю стояли, как стадо старых овец, их глаза смотрели из-под сморщенных век прямо мне в лицо. Они были не в силах в один момент отказаться от того, к чему стремились всем сердцем, у некоторых из них ноги слабо дергались, словно в конвульсиях; они пришли танцевать, они должны танцевать. Но я все же сказала им, наконец, что наша Нгома отменена.
Я предвидела, что эта весть обретет у них в головах совершенно иной смысл, но какой — не знала. Может быть, они сразу же поняли, насколько бесповоротно отменена наша Нгома — по той причине, что танцевать было не для кого, ведь меня больше нет. А может, они подумали, что великое празднество, небывалая Нгома, уже совершилась, и оно затмило, уничтожило своим великолепием все остальное, а раз оно окончилось, то и всему конец.
Маленькая туземная дворняжка, воспользовавшись тишиной, тявкнула во весь голос, а в моей памяти отозвалось эхо:
...все собачонки здесь — Трэй, Бланш и Душка — лают на меня.
Каманте, которому было поручено раздать старцам табак после танца, проявил свою обычную сообразительность, счел момент подходящим и без лишних слов выступил вперед с большой калебасой, наполненной табаком. Фарах было сделал ему знак отойти назад, но Каманте был кикуйю, он понимал старых танцоров и поступил по-своему. Понюшка табаку — это нечто реальное, осязаемое. И мы стали раздавать табак старикам. Немного спустя все они ушли.
Мне кажется, что из всех оставшихся на ферме людей больше всего горевали о моем отъезде старухи. За плечами у этих старых женщин была тяжкая, жестокая жизнь, и сами они под ее тяжестью стали жесткими, как кремень, и, подобно старому мулу, готовы были укусить исподтишка, если представится случай. Никакая болезнь их не брала, они выживали лучше, чем мужчины, и были более неукротимы, более независимы, чем мужчины, потому что были начисто лишены способности восхищаться. Они родили множество детей и видели, как многие из них умирают; ничто на свете уже не могло их напугать. Они таскали чудовищные связки хвороста, которые поддерживал ремень, охватывающий лоб — весом фунтов в триста; шатались под тяжестью, но не сдавались; они обрабатывали жесткую почву на своих шамбах, согнувшись пополам, вниз головой, с раннего утра до поздней ночи.
И отселе ищет жертву себе, и глаза ее видят издалека. Сердце ее жестко, как камень, да, жестко, как кусок нижнего жернова. Над страхом она насмехается. Когда поднимает она себя высоко, она издевается и над лошадью, и над всадником. Станет ли .она о многом умолять тебя? Станет ли она говорить тебе слова ласковые?
И у них был неистощимый запас энергии; от них исходила жизненная сила. Старухи живо интересовались всем, что происходит на ферме: им ничего не стоило пройти десять миль, чтобы поглядеть на Нгому, где пляшет молодежь; достаточно шутки и стаканчика тембу — и их морщинистые лица с беззубыми ртами начинают расплываться от смеха. Эта сила, эта любовь к жизни не только внушала мне глубокое уважение — она казалась мне пленительной и великолепной.