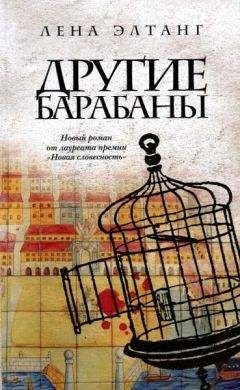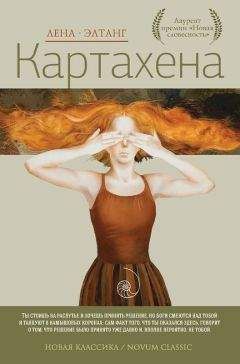Выставка закончилась, думал я, поэтому охраны нет, все нараспашку, а рассеянный сторож не в счет: разве я смог бы пробраться мимо настоящей охраны? В последний момент стало известно, что затея провалилась — тихо, как вертепный дьявол в дырку, прорезанную в полу. Приличный грабитель позвонил бы мне, наверное, и дал отбой, но Ласло на редкость неделикатен. Его посланник и того проще, несмотря на шишковатый череп. Китайцы сочли бы его чувствительным и мудрым, но я-то не китаец.
Кресло перестало жужжать, валики остановились, и мне пришлось открыть глаза. Я встал, подошел к окну, открыл его и посмотрел вниз, встав коленями на подоконник. Моя лестница из ящиков осталась с другой стороны здания, но жестяной карниз под окном кабинета был таким же широким, как под окном туалета, можно было надеяться, что он приведет меня к нужному месту. Реклама супермаркета вспыхнула снова и заискрилась голубым. Глобус повернулся ко мне своим океаном, в океане чернели несуществующие острова, вероятно, придуманные тем, кто расписывал эту сферу в четыре краски. Хотя, если подумать, мой воображаемый дом нарисован похожим способом, мой дом на острове Исабель, где я непременно начну писать книгу, может быть, роман, а может быть, «Новое происхождение видов».
Я придумывал этот дом все четыре года, даже гравюры на стенах развесил, на южной стороне — фукэй-га, пейзажи, а на северной — муся-э, самураи. Однажды я начал его рисовать, чтобы развлечь свою подружку — индианку по прозвищу Олуша, — изводившую меня рассказами о Галапагосах. Прикрепил к стене лист картона, оставшийся от ремонта, и рисовал на нем цветными мелками. Каждый день я дорисовывал что-нибудь новое — птицу на подоконнике, тень от ветки, чашку, забытую возле шезлонга. Сад я тоже нарисовал, правда, у меня кончились зеленые мелки и пришлось сделать траву сиреневой, поэтому вид у сада был немного марсианский.
Душан, Пепита и я работали в одной комнате, вторая была предназначена для клиентов, и кроме кожаного дивана, чашек и кофеварки там ничего не водилось. Кожаный диван индианке не нравился, она говорила, что он холоден, как змеиная чешуя, поэтому в том доме, который я придумывал, кожаной мебели не было, только плетеная, с подушками, набитыми птичьим пером. У дома была скользкая стеклянная крыша в форме луковки (это чтобы птицы не загадили), еще там были четыре стены из лавовых камней и веранда с гамаком. Когда я закончил рисунок и показал индианке, она помотала головой: красиво, но рыбаки будут над тобой смеяться, в Пуэрто-Вилламил живут одни рыбаки! И еще смотритель маяка, сумасшедший старый козел.
— Вот, — обрадовался я, — смотритель, это как раз то, что я хотел бы делать всю оставшуюся жизнь! Похлопочи за меня, если это место освободится.
Когда-то давно, в Паланге, один местный мальчишка сказал мне, что у каждого маяка есть своя частота мерцания, по которой можно определить, что это за маяк, и даже — как зовут смотрителя, помню, что я страшно удивился. Неужели есть на свете человек, подумал я, который разбирает все эти мерцания и способен отличить одну частоту от другой? От одной мысли, что он есть, становится немного спокойнее.
С тех пор прошло всего несколько лет, смотрителем быть я больше не хочу, а маяк на моих карманных Islas Galápagos давно зарос ежевикой, дурманом и слоновой травой до самого купола.
* * *
а любовь как медведь тяжела
в пляс пускалась где только случится
Без малого пять недель, тридцать четыре зарубки. Я так расклеился здесь, Хани, что не смог бы выцедить и капли той шляхетской удали, которая тащила меня зимой по карнизу галереи. Моя решимость, моя вспыльчивость, мой кураж уходят вереницей, как слуги из разорившегося замка, а я смотрю им вслед в зарешеченное окно. Вот я забираюсь по скользкой от измороси трубе, вот иду по заваленному гирляндами коридору, вот отключаю систему, вот прыгаю вниз — и стоп! ловлю себя на том, что не помню этого физически. То есть картинка высвечивается, и в ней есть запахи и звуки, но мое тело этого не помнит, оно двигалось, будто китайская кукла на тростях, грациозно, но бездумно. Если я не путаю, у гуандунских кукол было восемь характеров — сводница, ученый, красотка, какие-то мрачные мужики и клоун. Догадайся, какой куклой я себя чувствую.
Сегодня ночью я несколько раз стучал в стенку, надеясь вызвать соседа на разговор — меня который день преследует ощущение, что в камере слева кто-то сидит. Сначала я стучал осторожно, потом пару раз треснул по стене железным табуретом. Просто удивительно, что никто не примчался меня урезонить, похоже, охрана сидит в своей комнате с ящиком пива и включенным телевизором, где с утра до вечера показывают тренера Карлуша Кейруша. Или перед другим телевизором, где показывают меня.
Да нет, чушь собачья, никто на меня не смотрит, глазок остался от более важной птицы, прозябавшей в этой клетке. Они просто забыли убрать камеру, когда выпустили птичку на свободу. Лютас говорил, что такое устройство может работать годами, если его не обесточить, так и будет мигать подслеповатым глазком, пока здание не рухнет или не сгорит.
Дней через пять-шесть после Лютасова отъезда я решил опробовать его камеры, просто из любопытства, и оставил их включенными на целый день. Когда я вернулся из города, включил компьютер и прокрутил запись, то увидел Байшу, бродящую по комнатам с тряпкой, Байшу, мающуюся дурью, Байшу, читающую в моем кресле, и, наконец, Байшу, торопливо закрывшую книгу, когда за дверью раздались мои шаги. Она ловко поставила томик назад, заложив его медным ножом для писем, машинально взятым со стола, надела передник и отправилась на кухню.
Увидев это, я сразу пошел в кабинет и перетряхнул все книги, стоявшие на нижней полке.
Нож выпал из катехизиса, в остальных томах ничего не было, а жаль — я уже предвкушал, как утраченная тавромахия выпрыгнет мне прямо в руки из какого-нибудь In Nomine Dei. Явившись с кухни, Байша потупила глаза и сказала, что вещь сама найдется, если о ней забыть: мол, даже беличий тайник с лещиной рано или поздно покрывается молодой ореховой порослью.
Так оно и вышло, только тавромахий отыскалось две. Может статься, обе пряжки когда-то были половинами диптиха, просто их снесли антикварам по отдельности, разлучили, будто невольников на лагосском рынке. Вторую я увидел в «Гондване», прямо перед тем как выпрыгнуть из окна.
Вот идиот, почему я не протянул к витрине руку, когда завыла сирена, не разбил стекло вдребезги, не схватил тавромахию, не сунул в карман, не помчался прочь с добычей — была бы у меня теперь пара, два черненых быка и два золоченых заката.
Ладно, милая, не стану тебя запутывать, историю с галереей стоит рассказывать особо, будто повесть о капитане Копейкине в «Мертвых душах». Или нет, лучше как притчу о соблазненной вдове, спрятанную в тексте «Сатирикона», со вдовой у меня больше сюжетного сходства. Одним словом, я обещаю вернуться к галерее, а пока ограничусь пословицей, способной послужить эпиграфом к чему угодно: вор, который крадет у вора, имеет сто лет прощенья.
— Манера Лидии вести хозяйство всегда наводила на меня тоску, — сказала тетка, когда мы бродили по Вильнюсу за день до Рождества. — Спустя годы после ее смерти я находила запасы сахара, соли и спичечные коробки, замотанные в клеенку. А книжные шкафы! Боже, что творилось за рядами книг, туда складывались флаконы с лавандовым маслом, счета, клубки вязальной шерсти, засохшие бисквиты, носовые платки. За толстыми томами, которых никто не читал, шла особая жизнь, вечно что-то попискивало и побрякивало — там было довольно места, чтобы кошка прошла, и она ходила, не сомневайся. И охотилась на тамошних монстров.
— Я знаю. Агне мне показывала разные тайники, мы их все освоили понемногу.
— Еще одна кошка, — кивнула тетка. — Не хвастайся, тайники показывали не тебе одному. В доме вечно толпились мальчишки, а один даже возил ее в Порто, как взрослую, стащив у родителей сорок тысяч эскудо. Вернулась она в ужасном виде, ночевала в кемпинге и набралась там насекомых. Самое смешное, что соберись мы пожениться, моя дочь стала бы твоей падчерицей, enteada, а ты стал бы ее padrasto.
— Я не хочу на тебе жениться, — ответил я быстро, — давай лучше дойдем до Академии и выпьем тминной водки. К тому же, у меня есть жена.
— Я тебе и не предлагаю, — она пожала плечами. — Я, к твоему сведению, тоже замужем и по закону этой страны никогда не смогу развестись. Давай на мосту постоим, ладно?
— Ты уже пять лет как вдова, — я начинал мерзнуть и немного нервничал.
Наутро мне нужно было отправляться в «Янтарный берег», чтобы ехать с туристами на побережье в автобусе со сломанной печкой, от этого мне было заранее не по себе. В прошлый раз в салоне было так жарко, что дородные англичанки разделись почти до белья, и я едва не задохнулся от смеси одеколона, женского пота и керосина.