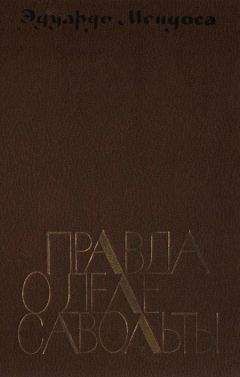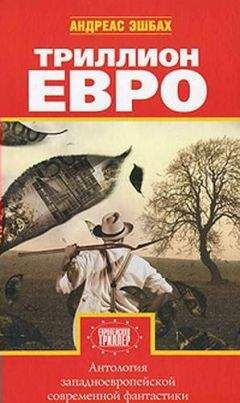— Если захочешь есть или пить, скажи нам, и мы постараемся накормить и напоить тебя по мере наших возможностей. А если захочешь потом удовлетворить свою страсть, то можешь выбрать из нас любую.
Откровенно говоря, слова ее меня несколько ошарашили. Я взял у них бутерброд с колбасой и немного вина, но отказался воспользоваться остальной частью их предложения, ссылаясь на свою усталость, что, впрочем, вполне соответствовало истине.
— Прошу вас, не сочтите мои слова за оскорбление, — объяснил я, — но я только что лишился самого дорогого для меня существа на свете.
Все стали выражать мне сочувствие, а та, которую звали Демокрасией, даже осмелилась заявить мне, что в таком случае я могу найти утешение сразу у всех. Но, встретив решительный отпор с моей стороны, они оставили меня в покое.
Между тем грузовик ехал без остановки среди невозделанных полей и красноватых скалистых гор, заросших кустарником. Над нами сгустились сумерки, и те, что играли в карты, убрали колоду и стали петь. Демокрасия и Эстрелья (на мой взгляд, ей было не больше пятнадцати лет) начали посвящать меня в суть своей деятельности. Я не очень хорошо уяснил для себя их объяснения, однако понял, что они отправились в путь, как только началась забастовка, проповедуя свободную любовь словом и делом. Они уже объехали довольно большую часть области и обратили в свою веру немало прозелитов. Мне дали прочесть листок, грубо отпечатанный типографским способом, на одной стороне которого была изображена голая женщина, запечатленная в позе греческой статуи, а на другой написано:
«Бедный труженик угнетается теми, кто богат и не работает, но у мужчины есть средство, хотя и прискорбное, отомстить за то порабощение, которому он подвергается, угнетая в свою очередь доставшуюся ему женщину; а у этой женщины нет никакой возможности излить свою душу, и она вынуждена мириться с голодом, холодом и нищетой, порожденной буржуазной эксплуатацией, и вдобавок терпеть грубую, оскорбительную тиранию мужчины. И это еще женщины счастливые, привилегированные, баловни судьбы, потому что тридцать-сорок процентов всех женщин гораздо несчастнее этих, ибо наше общество устроено таким образом, что оно лишает их права быть женщиной или, что одно и то же, доказать, что они женщины.
О ЖЕНЩИНА! Вот подлинная жертва гнусного общества. Вот истинный объект проповеди благородных апостолов».
— Эти замечательные, возвышенные слова принадлежат одному из учителей анархизма, — сказала хорошенькая Эстрелья, глядя на меня ясными бездонными глазами.
— Своим поведением мы намерены доказать мужчинам, что заслуживаем понимания и равноправия, — поддержала Демокрасия.
Я не знал, что и подумать. Сначала я принял их за самых вульгарных проституток, которые приспособили свое ремесло к духу времени. Но вскоре воочию убедился, что за проведение своих идей в жизнь на практике они не брали денег, разве что принимали еду, вино, сигареты или какую-нибудь мелочь вроде платочка, чулок, букетика цветов или портрета Бакунина. На протяжении всего нашего путешествия я поочередно считал их то комедиантками, то сумасшедшими, то святыми.
Шесть дней нашего пути до Барселоны носили, я бы осмелился сказать, буколический оттенок. Днем мы ехали по сельским местам, ночью спали в стойлах ферм, обитатели которых оказывали нам отеческий прием. Мы спали на соломе, укрывшись одеялами, любезно предоставленными нам хозяевами. Правда, заснуть было не так-то просто, потому что деревенские парни, зная о морали своих гостей, без конца наведывались в нашу общую спальню и поднимали шум.
Но миссионерки свободной любви казались неутомимыми. Наутро, сразу же после завтрака — отменного куска ветчины или колбасы, парного молока и свежего хлеба, — мы снова пускались в путь. Разумеется, я вел теперь машину как бы в благодарность за их доброе отношение ко мне и еду, которой они со мной делились. Но при этом, разумеется, я оставался в стороне от их пропагандистской деятельности. Если вдруг на пути нам попадались забастовщики, мне приказывали притормозить, пассажирки выскакивали из грузовика, вступали в беседу, раздавали листовки со своим воззванием к женщинам, а потом уединялись с мужчинами в кустах, оставляя меня одного или в общество стариков. В дороге я завел множество знакомств и получил изрядную дозу философских наставлений. Вопреки моим ожиданиям, прозелитизм охотно принимался мужчинами, как холостыми, так и женатыми, и к семерым проповедницам свободной любви всегда относились с величайшим уважением и учтивостью.
Наконец мы добрались до Барселоны. Она произвела на меня трагическое впечатление. То, что в сельской местности было раскрепощением и радостью, в городе было насилием и страхом. Отключение электричества погрузило разнородное городское скопище в мрачный лабиринт улиц, где скрывалось любое вероломство и могло неосмотрительно раскупаться любое злодеяние. Если при свете дня город был царством проповедников равенства и братства, то по ночам он превращался в неоспоримое господство нищих, проходимцев и хулиганов. Закрытие магазинов, отсутствие продовольственных товаров, привозимых из сел и деревень, лишили жителей самых необходимых продуктов, и мошенники, пользуясь этим, взвинчивали цены на черном рынке, превращая покупку хлеба в самую настоящую трагедию.
При виде такого Содома и Гоморры я посоветовал проповедницам свободной любви отказаться от своей затеи и вернуться в деревню. Но они ответили мне:
— Мы должны быть вместе с народом.
— Но ведь это не народ, — возразил я, — а всякий сброд. Вы даже представить себе не можете, на что способна эта свора скотов.
После шумного спора они согласились принять мое приглашение и переночевать у меня. Но едва мы подъехали к моему дому, имевшему господский вид, они наотрез отказались воспользоваться этим буржуазным жилищем. Я уговаривал их, просил, отлично сознавая, какие пойдут потом сплетни, оставить у меня хотя бы младшую Эстрелью, но они были неумолимы и уехали, оставив меня на тротуаре. А я смотрел вслед им и видел, как чернота неосвещенных улиц поглотила грузовик вместе с его плакатами и мечтами. Больше я уже никогда ничего не слышал о моих великодушных спутницах.
Два дня я не выходил из дома, питаясь тем, что давали мне соседи. На третий день после моего прибытия в Барселону и на девятнадцатый после отъезда из нее в городе зажегся свет и жизнь стала входить в обычную колею. На земле кружили подгоняемые ветром листовки вперемешку с бурой листвой платанов, оголивших свои ветви и позволявших видеть хмурое небо, где поочередно гремели и сверкали гром и молнии. Извозчики курсировали по улицам, и их кареты сверкали от дождя точно лакированные; газовые фонари отражались в мощенной камнем мостовой; окна были наглухо закрыты ставнями, трубы дымили, а закутанные в плащи пешеходы сменили свою неторопливую, размеренную летнюю походку на быстрый шаг. Молчаливые дети вновь отправились в школы. Маура возглавил правительство, а Камбо стал министром финансов.
Из газет я узнал о смерти Леппринсе.
Пожар до основания разрушил завод Савольты. Во время забастовки там не оказалось никого, кроме француза, и потому не пришлось оплакивать другие жертвы. По той же причине слухи о смерти Леппринсе носили самый разноречивый характер. Одни утверждали, что пожар на заводе начался, когда Леппринсе находился там; другие — что он пытался с несколькими добровольцами погасить пожар и его придавило не то балкой, не то стеной; а третьи приписывали его смерть взрыву порохового склада. На самом же деле никто ничего толком не знал, и все упорно уклонялись от вопросов, которые, на мой взгляд, напрашивались сами собой. Что делал Леппринсе один на заводе? По собственной ли воле он там оказался или речь идет о коварном преступлении, инсценированном потом как несчастный случай? И не был ли Леппринсе насильно приведен на завод и заперт там? А может быть, он уже был мертв, когда там начался пожар? Все эти вопросы так и остались без ответа.
Зато все газеты единодушно отмечали «заслуги великого финансиста» и, превознося в элегических выражениях покойного, умалчивали о том, что предприятие обанкротилось. «Города создают их жители, а возвеличивают иностранцы» («Ла Вангуардия»). «Он был французом, но жил и умер как настоящий каталонец» («Эль Бруси»). «Он был одним из создателей великой каталонской промышленности, символом эпохи, маяком и компасом современности» («Эль Мундо Графико»). И прочие шаблонные штампы. Только газета «Ла Вос де ла Хустисиа» осмелилась выразить свою былую неприязнь к нему, напечатав яростную статью под заголовком: «Собака сдохла, а бешенство продолжается».
В тот же день я отправился в дом супругов Леппринсе. Был хмурый, холодный, дождливый осенний день. Дом стоял, словно погруженный в летаргию, окна наглухо закрывали ставни, сад утопал в лужах, деревца низко сгибались под напором ветра. Я постучал. Дверь слегка приоткрылась, и в щелке показалось худощавое лицо старой служанки.