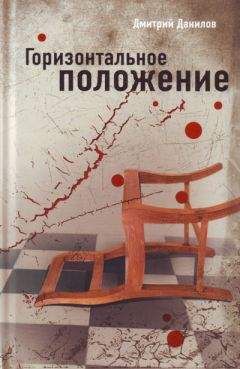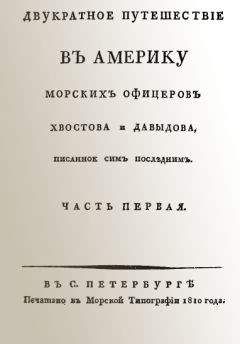В остальном, Якуб, человек остаётся собой.
Куда бы он ни ехал, клетку своего «я» —
<…> ему приходится
тащить с собой. Из этой клетки никуда
не денешься, не сбежишь.
А вот и денешься. Потому что по-шульпяковски понятый и пережитый человек остается таким собой, кто уже примеривается к собственному отсутствию в этом большом, не владеющем им (ловил-де, но не поймал) мире. Который не боится своего будущего — в каком-то смысле уже настоящего — отсутствия, видит и принимает его:
прозрачен, как печатный лист,
замысловат и неказист,
живёт пейзаж в моём окне,
но то, что кажется вовне,
давно живёт внутри меня —
в саду белеет простыня,
кипит похлёбка на огне,
который тоже есть во мне,
и тридцать три окна в дому
открыто на меня — во тьму
души, где тот же сад, и в нём
горит, горит сухим огнём
что было на моём веку
(кукушка делает «ку-ку»)
— и вырастает из огня
пейзаж, в котором нет меня
(«прозрачен, как печатный лист…»)
По существу, понимание и принятие этого — не что иное, как преодоление страха смерти.
Впрочем, в книге есть и еще один ключевой текст — заявленный в качестве такового уже самим своим названием: «Искусство поэзии», Ars poetica: изложение, стало быть, принципов и оснований своей поэтической работы. В нем — или мне это только кажется? — предложен выход из круга, очерченного вокруг человека темами смерти и небытия, которые-де человеку только и остается, что смиренно осваивать. Здесь намечена и даже названа по имени еще одна сила, наравне с жизнью и смертью, с бытием и небытием, способная работать с ними обоими. И это — сила традиционнейшая: слово (обращенное, предположительно, не только к читателю, но и к Тому, из особенного целомудрия не называемому по имени, Кем мир «вызван к жизни. / Но, как иной отец, / уходя из семьи, / забывает детей, / — так этот кто-то / забыл про нас. / Не помнит».
Слово, хрупкое, слабое, спасает от небытия и как задает дистанции, так же точно и убирает их — создает связи. Все своими, единственными средствами. Голыми звуками. Значками на бумаге.
«Наверное, так, — описывает автор очередную свою ситуацию отчуждения-присвоения, — я хотел влезть / в чью-то шкуру. / Но я ошибался, / Ведь этот кто-то / мог и не знать, / что мы существуем.
Оставалось — что?
найти слова и
рассказать всё.
Пусть увидит.
Пусть запомнит.
Кто мы? Что у нас?
— вот удивится!
Как щёлкают
эти семечки
— словечки».
Ольга БАЛЛА
Е в г е н и й С л и в к и н. Оборванные связи. Стихотворения. М., «Водолей», 2012, 88 стр.
Четвертая книга Евгения Сливкина по своему глубокому пессимизму превзошла все ожидания. Поэт впадает в такое глухое отчаяние, что как бы даже перестает заботиться о поэтической форме. Так человек, «сокрушающийся духом», перестает заботиться о своем внешнем виде. Но пророк Исайя еще до Христа сказал, что сокрушающиеся духом блаженны, потому что приближаются к Царю Небесному [1] . Они видят каким-то новым зрением, стараясь узреть мир невидимый.
Дух сокрушающийся не есть дух сокрушенный, а даже наоборот — это дух созидающий; созидающий для отчаяния своего те самые обители, в которых отчаяние лишается эстетически бесплодной унылости, безысходности, слепой и тупой безнадежности...
Поэту грозит одиночество. Муза его тоскует по читателю, сознание которого переживает некую встречную опророчествованность самим своим сокрушанием, и, стало быть, остро чувствует глубокую взволнованность поэта, слышит слегка срывающиеся от волнения интонации, слышит голос, который поет о чем-то таком, на что не падают капли дождя, не ложатся снежинки, что обращено к духу сокрушающемуся, переселившемуся на самую свою глубокую глубину, в самые свои катакомбные тайники, привыкающему к новому для себя состоянию отверженности — с одной стороны; и яростной, отчаянно радостной приверженности — с другой: приверженности к миру отверженных:
За городом, где окликают «сэр»
любого, если есть на нем штаны,
пугает посторонних диспансер,
одетый в панцирь мертвой тишины.
Не думаю, чтобы постороннего пугал какой-то диспансер. Самим этим преувеличением поэт выдает свою собственную сопричастность судьбе диспансера:
Нарколог доктор Хейден Донахью
тех пользует по мере средств и сил,
кто в одиночку истину открыл
в безалкогольном, в общем-то, краю.
И пациенты после процедур
выходят на законный перекур
во дворик между строгих корпусов,
решеткой обнесенный с полюсов.
Прямо скажем, написаны эти стихи прозой. Если не знать, что написаны они поэтом .
Они стоят у внутренней стены,
небрежно подперев ее спиной,
от прошлого вполне отделены
из стеклотары сложенной стеной.
А я, который истин не постиг, поодаль жду, от взглядов пряча взгляд, когда же от зависимости их последней наконец освободят.
Он поджидает их затем, чтобы восстановить оборванные связи, чтобы вернуть их к свободе, из которой их выдернули в диспансере:
Я для того и ошиваюсь тут,
чтоб к ним примкнуть без ведома врача,
когда они на выписку пойдут,
оборванные связи волоча.
(«Посетитель»)
Бессознательно поэт хочет убедиться в том, что они все те же , что отверженности своей они не предали: отверженный ищет себе подобных.
Жан Рембо в арестантской пижаме
умирает у стен на виду
и, мечтая о мальчике Джамми,
мешковину сжимает в бреду.
Тряпка с желчью лежит, как болонка,
под кроватью, хвостом шевеля,
и не скрипнет протез из обломка
сумасшедшего корабля.
Поэт и его подстерегает. Как говорил Черт Ивана Карамазова, любивший подстерегать отшельников: «Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен » [2] .
Он мечтает о мальчике Джамми,
о сухой абиссинской жаре,
а к нему со Святыми Дарами
подступает месье ле кюре!
Жан Рембо умирает в Марселе,
под рукой — неотзывчив и дрябл,
посадив на бродячие мели
направлявшийся к дому корабль.
(«Африканец»)
Сливкину не до читателя. Он открывает мир самоотвергающихся настолько самоотверженно, что читатель невольно чувствует себя лишним.
Куда ж нам плыть без мыслей мрачных,
их не оставить на потом!
Повисли паруса на мачтах,
как выморочное пальто.
Команда по привычке ропщет
на непечатном языке.
Стоять на месте, гардеробщик
с нечетным номером в руке!..
Стоять на палубе порожней,
покуда музыкой орбит
все тяжелей и безнадежней
над морем вешалка скрипит.
(«Куда ж нам плыть без мыслей мрачных…»)
Здесь автор отождествляется с героем настолько, чтобы поэзия не казалась искусством, точнее, чтобы она оказалась неискусством. Кому сегодня нужна такая поэзия? Вероятно, каждому из нас. Кто же не стоит сегодня на ветру, на открытой палубе и под скрипящей вешалкой со старым пальто, надуваемом не хуже паруса. Возьмите любое стихотворение Сливкина, и оно будет об одном и том же. Даже, казалось бы, самое безобидное: