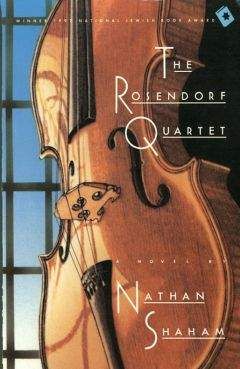Наедине с собою я думаю, что возвращение к инструменту вызвано стремлением сблизиться с Эвой.
Быть может, я однажды смогу аккомпанировать ей и звуками выскажу то, чего не отваживаюсь сказать словами. Есть на иврите такое выражение — «мечты об Испании», оно означает нечто вроде «воздушные замки». Я недавно услыхал его от Фридмана, и здесь оно более чем уместно. Ведь в последнее время я часто думаю про несчастного парня, уехавшего в Испанию. Я словно решил заменить его. Недавно вдруг обнаружил, что слоняюсь по улице, где живет Эва. Отношение к этой женщине выходит из-под контроля разума. Я начинаю вести себя, как герой романа, которого никогда бы не написал. Только круглый дурак, только неисправимый романтик позволит сердцу так заблудиться и кидаться вслед той, что никогда не будет ему принадлежать. Словно квота на дураков должна быть использована — один отправился в Испанию, так я пришел ему на смену.
Услышав, что я начал играть на пианино, Эва со смехом сказала: «Ну, а я начну писать», — словно невозможно представить, чтобы человек занимался и тем и другим сразу. Когда мне рассказали про это, я увидел в ее замечании спесь и дурной вкус. Я даже рассердился на нее: уж не считает ли эта женщина любительское музицирование чем-то вроде графомании? Отрезвев, я увидел, что раздражение мое — трогательная попытка любящей души найти недостатки в любимой, чтобы хоть немного уменьшить тяжесть любви.
Если бы мне в молодости сказали, что в сорок лет мои влюбленности не будут свободны от юношеского смятения, ищущего пороков в девушке, не ответившей на мою любовь, я бы расхохотался. Сегодня я знаю, что любовь всегда пребывает в подростковом возрасте. Кстати, я вовсе не уверен в том, что если Эва попытает силы в литературе, из-под пера ее не выйдет отлично выделанная проза, свободная от лишних слов. Она станет писать наверняка так же, как говорит. Точные, ясные фразы, экономные и злящие своей прямотой.
Я был, конечно, смешон, когда уселся играть импровизации на тему из «Волшебной флейты» на вечере в честь дня рождения Марты — мы играли в фанты, и мне назначили такой «штраф» за неразгаданную загадку. Но Эва вовсе не смеялась. Она глядела на меня с изумлением, словно на вундеркинда, и сказала, что если я буду прилежно и подолгу заниматься, то где-то через год мы сможем вместе сыграть «Арпеджионе» Шуберта.
И это тоже из признаков юношеской любви: акробатические прыжки от отчаяния к надежде.
Одной случайной фразой она придала ценность и весомость будущему году. Человек, который чего-то ждет, чувствует, что живет не впустую. И если он может приблизить заветный час своими руками, то поступки его преисполняются смыслом и назначением. Каждая строчка из «Арпеджионе», которую уловят мои пальцы, — это великий шаг вперед, к Земле обетованной.
25.12.38
Еще один год подходит к концу. В политике — угрожающая путаница, а у меня на душе немного яснее. Я готов отказаться от прошлого. В тот момент, когда человек весь отдается воспоминаниям, он как бы провозглашает, что настоящее — конечная точка, к которой течет прошлое. Стираю воспоминания, чтобы можно было просить у будущего неожиданностей.
Юмор защищает меня от боли, от ненависти и жалости к себе. И от мести я откажусь, если смогу когда-нибудь вернуться туда, где птицы щебечут по-немецки.
Весь вечер слушал Баха. Религия старалась умертвить плоть ради возвышения души и потому, как говорит Гейне, породила грех и лицемерие. Но в своей попытке привлечь музыку на службу религиозному чувству она вернула плоти радость ощущений. В дзен-буддизме музыка и есть религиозный текст. Там попытались умертвить плоть с помощью отказа от мысли, но ведь и в музыке есть поток идей. Когда мы звуками говорим с Богом, мы просим Его дозволить нам сластолюбие.
Гете верил, что музыка не нуждается в новшествах — влияние ее тем сильнее, чем более мы к ней привыкли. Он ошибался. Мы не выбираем музыку, которую любим, но любим ту музыку, которую нас приучили слушать. Если мы с младых ногтей будем слушать музыку Шенберга, она станет частью нашего мира, как и звук языка, на котором мы говорим.
Нет такой музыки, которая была бы приятнее моему уху, чем звуки немецкой речи.
Чувствительность, обостряющая в нас восприятие искусства, одновременно его притупляет, когда мы отказываемся от труда, чтобы отдаться чувству в его чистоте. В музыке истинное чувство начинается только после того, как окончится труд. Я знаю, что в те дни, когда я легко обижаюсь, мои творческие силы падают. В свое время я как комплимент воспринимал антисемитизм красношеих баварцев. Я не мог понять моих друзей-евреев, которых любое антисемитское высказывание задевало до глубины души, в то время как они сами беспрерывно сыпали антисемитскими замечаниями.
Неприятный спор с переводчиком. Он полагает, что мой немецкий слишком «низок», и верит, что язык пророков способен возвысить его. Я сказал ему, что опасаюсь, как бы высокий стиль не убил главного. Его приверженность к ивриту поистине болезненна. Он так защищает честь древнего языка, словно, пользуясь другим языком на Святой земле, мы подрываем престиж иврита. Переводчик мой, разумеется; член Общества по охране языка и, если кто-нибудь позволит себе заговорить на идише во время публичного собрания, он протестующе кричит с места. Если бы не природная порядочность, он бы наверняка поджигал киоски, где продают немецкие газеты.
Со мной он обращается так, словно откупил права на мою книгу. Я пользовался готовыми языковыми средствами, он же создал свои из ничего. Похоже, он и вправду верит, что каждое созданное им слово закладывает основу новой культуры. Странно только, что при всей мрачной серьезности в делах, касающихся защиты достоинства иврита, забытые слова, вводимые им, — это, как правило, шутовство и сквернословие, которым страшно беден сей церемониальный язык. Он прислушивается к детям и записывает их искаженные словечки. Любой жалкий росток местного фольклора тут лелеют, пока он не увянет от избытка воды. Удивлюсь, если среди этой молодежи, знающей всего один язык, да еще такой, где не хватает народных оборотов и самых ходовых слов, вырастут писатели.
Для этого мученика иврита я мерзкий мракобес, союзник Сатаны. Он, правда, не высказал мне этого на человеческом языке, однако намекнул, что я страдаю каким-то душевным извращением, истоки коего кроются в галутной жизни. Я ненавижу евреев и в том числе себя. По его мнению, тот, кто без прикрас изображает болячки нашего народа, раболепствует перед гоями. Обвинение, с которым приходится жить всякому, кто не согласен закрывать глаза на слабости евреев. Что делать? Я еврей, оторвавшийся от своего народа, — без корней, без здоровой народной мудрости. О моем невежестве в политических вопросах и говорить не приходится.
Я причиняю своему издателю и переводчику двойное страдание. Прибегая к арабской поговорке, можно сказать, что легче выпрямить хвост собаки, чем спину галутного еврея вроде меня, склоняющегося, чтобы поцеловать бьющую его руку. Что еще должно произойти в проклятой этой Германии, чтобы влюбленные в нее евреи поняли: Гете и Бах не их наследственное достояние?
Мы говорим друг с другом только о тонкостях стиля, к тому же ивритские эквиваленты немецких выражений мне недоступны. Однажды он повел меня из тихого гетто немецких евреев, что на северном конце улицы Элиэзера Бен-Иехуды, в шумное кафе, облюбованное тель-авивской богемой. Но побеседовать нам в этом кафе не удалось. На меня бросали гневные взгляды, едва я открывал рот и произносил слово по-немецки. Я вполне мог слушать литературную дискуссию, ведь каждое второе слово на иврите — иностранное.
Я почувствовал в завсегдатаях кафе какой-то оптимизм, нуждающийся в постоянном подогреве, чтобы он, упаси Бог, не остыл. Они, видно, верят в культурное обновление, несущееся на крыльях меняющейся жизни. Подобная наивность и вправду может создать нечто. Я порадовался, что не могу участвовать в их беседе. В самом лучшем случае я влил бы каплю яда в их бокал. Если им удобно верить в то, во что они верят, кто я такой, чтобы красть у них душевный покой? Я стал подозревать, что моя неспособность выучить иврит проистекает из глубокого источника. Что-то во мне восстает против поспешного приспособления древнего языка для повседневных нужд. Может, когда-нибудь я смогу читать газеты. Еврейская же традиция постольку, поскольку она необходима для расширения кругозора, будет приходить ко мне в немецком переводе. Если евреям есть что сказать миру, то, чтобы достигнуть цели, слово это должно быть сказано на тех языках, которыми пользуются в разных странах мира. Буду весьма удивлен, если в XXI веке у иврита будет больше приверженцев, чем есть сегодня.
15.1.39
Читая указания композитора в начале части или под нотным станом — все эти итальянские слова: «allegro moderato», «molto espressivo»[94], «ritardando»[95] и прочее, я вспоминаю Эриха. И поскольку я не знаю, кто вспомнит о нем, когда исчезнет наше поколение, я постараюсь здесь увековечить его память.