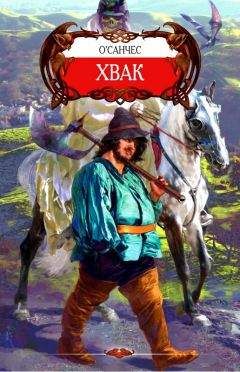Валя такой человек — скажешь ему: «Давай сходим туда-то», а он говорит: «Давай сходим». Скажешь ему: «Давай выпьем, а?», а он: «А почему же нет? Конечно, выпьем». — «А может, не стоит?» — «Да, пожалуй, не стоит», — говорит он. Вот какой человек.
Но, конечно, и он не без заскоков: пишет рассказы. Надо сказать, рассказы его мне сильно нравятся. Там такие у него люди, будто очень знакомые.
Вот такое ощущение, знаешь: скажем, в поезде ты или в самолете поболтал с каким-нибудь мужиком, а потом судьба развела вас на разные меридианы; тебе, конечно, досадно — где теперь этот мужик, может, его и не было совсем; и вдруг в Валькином рассказе встречаешь его снова; вот так встреча!
— Ой, не идет! Не умею! Муть! — вопит иногда Валька и сует бумагу в печку.
— Балда, — говорю ему я. — Психованный тип. Лев Толстой, знаешь, как мучился? А бумагу не жег.
— А Гоголь жег, — говорит он.
— Ну и зря, — говорю я.
Очень Тамаре моей Валька понравился и дочке тоже. А у самого у него семейная жизнь не ладится, по швам расползлась. Не знаю уж, кто из них прав, кто виноват. Таня ли, он ли, а только понял я из Валькиных рассказов, что мучают они друг друга без веских причин.
Я снял кастрюлю, керосинку задул, навалил себе полную тарелку бобов и стал ужинать под легкую инструментальную музыку.
Не знаю, что мне делать с крановщицей Машей? Как получилось у нас с ней это самое, неделю мучился потом и бегал от нее, все Тамару вспоминал. Не хватает моей души на двух баб. А Валька говорит, что он в этих делах не советчик. А ведь мог бы подбросить какие- нибудь цэ у. Писатель все же. Молчит, предоставляет самому себе.
А Маша мне стихи прислала: «Если облако ты белое, тогда я полевой цветок, все для тебя я сделаю, когда придет любви моей срок».
Тамара мне, значит, носки вязаные и шарф, а Маша — стихи. Дела!
— Облако белое, — смеется Марвич. — Облако в клешах.
Это он шутит, острит без злобы.
По крыльцу нашему застучали шаги, и послышалось шарканье — кто-то глину с ног соскребывал. Я зажег свет. Вошли Марвич и Мухин. В руках у них были бутылки. Значит, Валька не к Дому приезжих, а в автолавку бегал, вот оно что.
— Давно с тобой не виделись, — сказал мне Мухин. — Заскучал за тобой, Сергей Иванович.
— Садитесь, штурман, — сказал ему Валька и поставил бутылки на стол: ноль-пять «Зубровки», ноль-пять алычовой и бутылку шампанского.
— Можно отправление давать? — спросил я.
— Давай, — сказал Валька и разлил поначалу «Зубровки».
— Внимание! — крикнул я. — До отхода голубого экспресса «Ни с места» осталось пять минут. Пассажиров просим занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Сенькью!
— Провожающих нету, — заметил Марвич, и мы выпили.
— Тут вдову мне одну сватают, — сказал Мухин. — Как вы думаете, ребята, может, стоит мне остепениться на сорок пятом году героической жизни?
— Что за вдова, Петрович? — спросил Валька.
— Одного боюсь, — весовщицей она работает. Вдруг проворуется? Мне тогда позор.
— А ты ее сними, Петрович, с весов и пусти на производство, — посоветовал я.
— Идея, — сказал Мухин и разлил остатки «Зубровки».
На дворе пошел дождь. По окошкам нашим снаружи потекли струйки.
— Вот моя Тамарка медсестрой работает. В госпитале, — сказал я. — Там украсть нечего.
Мне стало печально, когда я вспомнил о Тамарке.
Струйки дождя на окнах напомнили мне балтийские наши дожди и все города, по которым мы кочевали с Тамаркой: Калининград, Лиепая, Пярну… Как мы сидим с ней, бывало, обнявшись на кровати и поем: «Мы с тобой два берега у одной реки», а за окном дождь, Тамарка ногой коляску качает, а дочка только носиком посвистывает. Горе ей со мной, жене моей: все меня носит по разным местам, и дружки у меня все шальные какие-то попадаются, можно сказать, энтузиасты дальних дорог.
Валя пустил в ход алычовую. Она была сладкая и напомнила мне утренний торт. Но все же она ударяла — как-никак двадцать пять градусов.
— А у меня жена артистка, Петрович, — сказал Валя.
— А-а, — улыбнулся Мухин, — с их сестрой тяжело. Фокусы разные…
— Ну да, — сказал Валя, — комплексы там всякие…
— Знаешь, — сказал я ему, — если уж она в Березань приехала, значит без всяких финтов. Такое мое мнение.
— Да, может быть, это и не она? Может, тебе померещилось, Серега?
— Что же ты не сходил в Дом приезжих?
— Боюсь, — тихо сказал Валька, кореш мой.
Мы стали обсуждать все его дела, но, конечно, путного ничего сказать не могли. Мухин, должно быть, представлял на месте Тани свою вдову, а я то ли Тамарку, то ли крановщицу Машу с ее стихами. А ведь такая девка, как Таня, стихов своему дружку не напишет. Потом мы допили алычовую и замолчали, размечтались каждый о своем. Мухин журнал листал, Валька крутил приемник, а я в потолок смотрел.
— Я хочу простоты, — вдруг с жаром сказал Валька. — Простых, естественных человеческих чувств и ясности. Хочу стоять за своих друзей и любить свою жену, своих детей, жалеть людей, делать для них что-то хорошее, никому не делать зла. И хватит с меня драк. Все эти разговоры о сложности, жизнь вразброд — удобная питательная среда для подонков всех мастей. Я хочу чувствовать каждого встречного, чувствовать жизнь до последней нитки, до каждого перышка в небе. Ведь бывают такие моменты, когда ты чувствуешь жизнь сполна, всю — без края… без укоров совести, без разлада… весело и юно… и мудро. Она в тебе, и ты в ней… Ты понимаешь меня, Серега?
— Угу, — сказал я.
— У тебя были такие моменты?
— Были, — сказал я. — Помню, на Якорной площади в День флота мы перетянули канат у подводников. А день был ясный очень, и мы вместе пошли на эсминец. На пирсе народу сбилось видимо-невидимо: офицеры, рядовые — все смешались и смеялись все, что вставили фитиль подводникам…
Я вспомнил Якорную площадь, бронзового адмирала Макарова в синем небе, команду подводников в брезентовых робах — крепенькие такие паренечки, что твои кнехты, — и как мы тянули канат шаг за шагом, а потом пирс, вымпелы, шеи у ребят здоровые, как столбы, и загорелые, и наш эсминец, зачехленный, серый, орудия, локаторы, минные аппараты — могучая глыба, наш дом.
— Да-да, я понимаю тебя, — печально как-то сказал Валька. — Но видишь ли… Вот я, и ты, и Мухин, все нормальные люди постоянно мучают себя. Я все время пополняю счет к самому себе, и последнее в нем — странный парень, переросток, то ли пройдоха, то ли беспомощный щенок. Куда он делся? Это мучает меня. Ну, ладно, это к слову, но если уж так говорить, одно веселенькое чириканье не приведет в ту полную, чистую жизнь…
— Туманно выражаетесь, товарищ, — сказал Мухин.
— Да-да, — огорчился Марвич, — в том-то и дело, корявый язык…
— Боцмана я недавно встретил демобилизованного, — вспомнил я. — Стоит наш эсминец на консервации теперь, на приколе. Моральный износ, говорят, понял?
— В такую жизнь ведут тесные ворота, — сказал Марвич, — и узкий путь. Надо идти с чистыми руками и с чистыми глазами. Нельзя наваливаться и давить других. Там не сладкими пирогами кормят. Там всем должно быть место. Верно я говорю, Петрович?
— Верно! — махнул рукой Мухин. — Открывай шампанское!
Мы выпили шампанского, и вот тут-то нас немного разобрало. Спели втроем несколько песен, и вдруг Валька захотел идти в Дом приезжих.
— Поздно, Валька, — сказал я. — Завтра сходишь.
— Нет, я сейчас пойду, — уперся он, — а вы как хотите.
Мы вышли все трое из вагончика и заплюхали по лужам. Вдали шумела стройка, работала ночная смена. Ползали огоньки бульдозеров, иной раз вспыхивала автогенная сварка, и тогда освещались формы главного корпуса.
— Я ее люблю, — бормотал Марвич, — жить без нее не могу. Как я жил без нее столько месяцев?
Я помню улицу, — говорил он. — Знаешь, в том городе есть улица: четыре башни и крепостная стена, а с другой стороны пустые амбары… там и началась вся наша путаница с Таней. Знаешь, для меня эта улица как юность. Когда я был мальчишкой, мне все время мерещилось что-то подобное и… Но ты, Сергей, должно быть, не понимаешь…
— Почему же нет? — сказал я. — Мне тоже мерещилась всякая мура.
— А потом я стал стыдиться этой улицы. Как говорится, перерос. Напрасно стыжусь, а?
— Эх вы, молодые вы еще! — крикнул вдруг Мухин, сплюнул и остановился.
— Ты чего, Петрович?
— Ничего, — в сердцах сказал он. — Ты детей видел в немецком концлагере? Ты видел, как такие вот маленькие старички в ловитки еще играть пытаются? А горло тебе никому не хотелось перегрызть? Лично, собственными клыками? Пока! Завтра к двенадцати явись на судно.
Он пошел от нас в сторону, раскорякой взобрался на отвал глины и исчез.
А мы, конечно, в Дом приезжих не пошли. Только издали посмотрели на огоньки и отправились спать. Конечно, не спали, а болтали полночи. Разговаривали. Мы поняли Мухина.