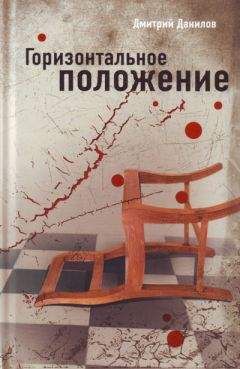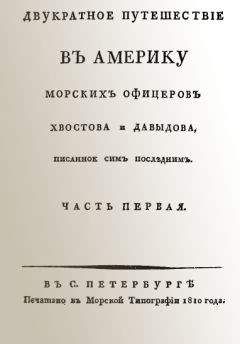Конечно, идею существования другой литературы нельзя назвать революционно новой, мотив противостояния традиции неоднократно получал обоснование в работах западных философов (более чем странно, однако, что этот вектор теоретической эстетики, включающий ряд часто цитируемых Подорогой авторов, фактически игнорируется им в данном контексте). Так, например, Жан Полан, анализируя опыт авангарда, считал, что литература «взращена на отвержении» [12] . Отнюдь не следование канонам, а распря с общим местом превратилась в кредо многих литературных направлений, условно определенных Поланом как террор в изящной словесности . В дальнейшем исследование искусства модернизма как борьбы с клише стало одним из центральных пунктов постструктуралистской критики. Юлия Кристева, обращаясь к опыту Лотреамона, утверждала, что «и „Песни Мальдорора”, и „Стихотворения” — это <…> неутихающий спор с более ранними видами письма» [13] . «Великий писатель — всегда как чужеземец в языке, на котором он выражается, пусть даже это и его родной язык… <…> он кроит внутри своего языка язык иностранный, коего прежде не существовало», — вторил «Поискам утраченного времени» Жиль Делёз, исследуя литературу модернизма [14] .
Впрочем, параллельно этим мыслям возникали гипотезы о том, что и сама высокая традиция выстраивалась по схожему принципу. На это указал, например, в своей известной работе «Страх влияния» Хэрольд Блум, осуществивший перенос понятия «эдипов комплекс» в область истории литературы и обнаруживший на месте покладистых учеников сплошных ересиархов и ревизионистов [15] . «С тех пор как существует „Литература” (то есть очень недолго, если судить по дате возникновения этого термина), можно сказать, что функция писателя — с ней воевать», — сформулировал это Ролан Барт [16] . Если же обратиться к размышлениям Гегеля о Гёте и Шиллере, то тема другой литературы рискует полностью утратить оригинальность: «Эти поэты отбросили в своих первых произведениях все фабриковавшиеся тогда правила, намеренно нарушая их, и стали творить так, как будто до них не было никакой поэзии» [17] . Любопытно, что и у Подороги порой теряется грань между каноном и экспериментом: «Любое языковое событие, которое мы называем поэтическим, — это нарушение правила и готовой нормы, поэт бросает вызов, и здесь все ставки его игры. Великая поэзия — это великая игра, где Бог не цель и конец, а начало». Кажется, что здесь круг замыкается: оставаясь оглядкой на прошлое, война с канонами оборачивается занятием собственной ниши в традиции, и разговор о другой литературе , по-видимому, теряет смысл.
Однако рядом с темой противостояния традиции у Подороги постоянно проводится идея поиска иной траектории. Так, поэтическое косноязычие («остраннение») для Андрея Белого — «это отказ от литературного языка-нормы в пользу другого, неведомого языка, который еще предстоит создать. Идеальное косноязычие как утопия нового языка ». А образ вестника у обэриутов — это представление о возможности существования на границах миров, попытка взгляда на принципы человеческого существования (разумеется, включающие и литературные каноны) из пространства, не подчиненного этим законам и потому не обремененного противостоянием им: «Обэриутский жест — очаг бессмыслицы, он самоценен, событиен и поэтому не нуждается в интерпретации („смысле”), он — ни для чего, он — просто открытие новых возможностей существования предметов и тел, погрязших в скуке времени и поэтому неподвижных и мертвых. <… > То, что я читаю, не предназначено для понимания, не понимать — вот то, что нужно удерживать, читая Введенского или Хармса. Надо заметить, что филологическая жажда понимания намного сильнее философского любопытства. Тактика комментария остается прежней — создать условия для понимания непонятного, найти в любом непонятном основу для будущего объяснения и уточнения, ссылки или параллели». В первом томе «Мимесиса» эта мысль развивалась на базе текстов Достоевского: «Мы начинаем слышать голоса, как если бы они приходили к нам изнутри, из каких-то потаенных глубин нашего молчания» [18] .
Тема трансгрессивного жеста, выхода в (до)языковое Ничто никоим образом не может быть ограничена коммуникативными кодами культуры, аналогиями и влияниями, наоборот — речь идет об указании на их пределы, на поиск того, что предшествует им [19] . И в таком случае мотив искажения, «остраннения» реальности и противостояния традиции начинает выглядеть второстепенным средством для философского поиска. Исследование Подороги лишь подступает к этим темам, в связи с чем возникает вопрос о мнимой всеохватности концепта мимесиса [20] и методов аналитической антропологии для рассматриваемых проблем. Однако особенностью исследования Подороги оказывается его отчаянное намерение остаться при анализе другой литературы на привычной территории коммуникативных стратегий [21] , аналогий, влияний и подражаний.
Прежде всего, «Мимесис» пытается провести некую линию преемственности внутри другой литературы . В каком-то смысле речь идет о выстраивании альтернативной истории литературы, параллельной традиции. Но поскольку отдельные звенья этой цепи оказываются вполне предсказуемыми (так, влияние Гоголя на Достоевского — тема привычная даже на уровне школьной программы), то создается впечатление, что Подорога продолжает мыслить в «имперской» логике традиции там, где уместней оказывается «анархистская» логика разрыва , продолжает использовать привычный метод культурных аналогий там, где, возможно, требуется отказ от него. Усиливается обратное впечатление: всякое обнаружение следов влияния Гоголя в текстах Достоевского в большей степени отдаляет нас от анализа этих произведений, чем приближает к нему.
В главе об Андрее Белом автор задается следующим вопросом: «Можно ли, а главное, нужно ли в помощь антропологии литературы вводить иной масштаб аналитики? Например, попытаться соотнести понятие строя у Белого с такими понятиями, как „объемлющий оптический строй” Дж. Гибсона, длительность А. Бергсона, теория значения этолога Ж.-В. Юкскюля или экзистенциал „бытие-в-мире” М. Хайдеггера?» Вопрос остается риторическим, но по мере чтения все больше начинает претендовать на роль своеобразного эпиграфа к «Мимесису». Особенно отчетливо эта проблема предела аналогий (пусть неожиданных и удивляющих) выявляется при анализе текстов Андрея Платонова. При всей оригинальности предпринятая Подорогой попытка взгляда на художественный универсум Платонова через машинную эстетику («Машина как принцип организации материи стиха, всей пролетарской поэмы») прежде всего заставляет задуматься о том, что эти тексты никоим образом к ней не сводятся. В голову приходит мысль, что аналитическая антропология, вопреки стремлению взглянуть на текст как на событие sui generis , продолжает оставаться на территории поиска исторических и культурных точек опоры для единичного художественного объекта. В случае Платонова привязки к эпохе кажутся несущественными не потому, что они лишены смысла, а потому, что они совершенно не позволяют понять, почему в эту эпоху так писал только Платонов.
Наиболее удачными эпизодами главы «Евнух души» кажутся противоположные интенции, спонтанный поиск возможности проанализировать машинную эстетику через тексты Платонова: «Сегодня идеи Федорова, Флоренского, Вернадского оказались комментарием к идеям Платонова в области электротехники, теории машин и общей теории Природы». Но в «Мимесисе» эта мысль оказывается отнюдь не точкой отсчета для альтернативного взгляда на русскую культуру, а, скорее, — любопытным дополнением к встраиванию Платонова в логику путей науки и философии [22] .
Тем не менее представлять исследование Подороги как работу, расколотую собственными противоречиями, было бы опрометчиво. Прежде всего потому, что предложенное выше разделение коммуникативного и докоммуникативного уровней (литературного) языка отнюдь не является легко разрешаемой проблемой. Трудность заключается не только в том, что разговор о возможности творчества за пределами традиции оказывается сложным образом переплетен с идеей противостояния канонам, поскольку именно мысль об отрицании законов должна стать точкой отсчета для этого разговора. Но главное непреодоленное и, быть может, непреодолимое препятствие можно определить следующим образом: в пространстве философского (филологического) исследования размышления о трансгрессивном выходе в область до коммуникации неизменно оказываются заперты в коммуникативных пределах. В противном случае подобное исследование должно соответственно своей цели освободиться от функции текста-сообщения . И «Мимесис» позволяет вплотную приблизиться к завораживающей многогранности этой проблемы.