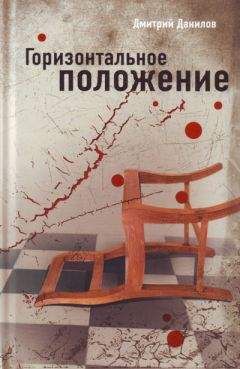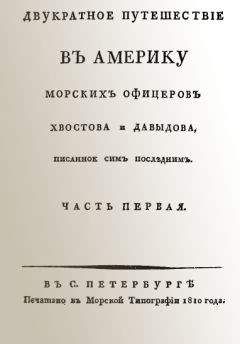Тем не менее представлять исследование Подороги как работу, расколотую собственными противоречиями, было бы опрометчиво. Прежде всего потому, что предложенное выше разделение коммуникативного и докоммуникативного уровней (литературного) языка отнюдь не является легко разрешаемой проблемой. Трудность заключается не только в том, что разговор о возможности творчества за пределами традиции оказывается сложным образом переплетен с идеей противостояния канонам, поскольку именно мысль об отрицании законов должна стать точкой отсчета для этого разговора. Но главное непреодоленное и, быть может, непреодолимое препятствие можно определить следующим образом: в пространстве философского (филологического) исследования размышления о трансгрессивном выходе в область до коммуникации неизменно оказываются заперты в коммуникативных пределах. В противном случае подобное исследование должно соответственно своей цели освободиться от функции текста-сообщения . И «Мимесис» позволяет вплотную приблизиться к завораживающей многогранности этой проблемы.
По-видимому, одним из главных результатов исследования Подороги является радикальное сомнение в универсальности взгляда на литературное произведение исключительно через встраивание его в некую систему. «Мимесис» указывает на существование текстов, при анализе которых принцип аналогий и влияний, главенствовавший в теории литературы на протяжении многих лет, теряет свою всеохватность.
Анатолий РЯСОВ
[3] П о д о р о г а В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. В 2-х томах. Т. 1. Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М., «Культурная Революция», «Logos altera», 2006.
[4] Cм. обширные дискуссии на эту тему в номерах журнала «Новое литературное обозрение» за 2010 — 2012 гг., прежде всего: № 106 (2010, № 6) и № 113 (2012, № 1).
[5] П о д о р о г а В. А. Словарь аналитической антропологии <http://lib.ru/FILOSOF/PODOROGA_W/s_antropo.txt> .
[6] Пожалуй, именно акцент на чтении, а не понимании объясняет внимание к фигуре Мориса Бланшо во введении к «Мимесису»: «Чтение в смысле чтения литературы не требует даже чистого движения понимания, осмысления, которое сохраняло бы смысл, подхватывая его. Чтение располагается по ту или по сю сторону понимания» (Б л а н ш о М. Пространство литературы. М., «Логос», 2002, стр. 199). Так же любопытно заметить, что в пространстве русской философии тема неинтерпретирующего чтения на протяжении многих лет занимала Владимира Бибихина.
[7] П о д о р о г а В. А. Мимесис, т. 1, стр. 9.
[8] В этом исследовании произведения С. Кьеркегора, Ф. Ницше, М. Хайдеггера, М. Пруста и Ф. Кафки рассматривались как «экстерриториальные» — сопротивляющиеся общепринятым нормам историко-философского анализа (См.: П о д о р о г а В. А. Выражение и смысл. М., «Ad Marginem», 1995).
[9] См.: Ф у к о М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974 — 1975 учебном году. СПб., «Наука», 2004.
[10] П о д о р о г а В. А. Мимесис, т. 1, стр. 69.
[11] Хотя подобных наблюдений в книге немало: переработка языка идеологии у Платонова («Язык Платонова — замечательный пример негативного мимесиса деспотического языка-палача, учрежденного могуществом автократической и ничем не ограниченной воли. Одно правило: подражать, отрицая подражаемое»); переворот смыслов у обэриутов («общая манера размышлять для Хармса, Вагинова и Введенского и, конечно, для главного обэриутского философа Липавского заключается в следующем по простоте приеме: сопоставлении всего со всем»).
[12] П о л а н Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб., «Наука», 2000, стр. 43.
[13] К р и с т е в а Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. В сб.: «Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму». М., «Издательская группа Прогресс», 2000, стр. 433.
[14] Д е л ё з Ж. Критика и клиника. СПб., «Machina», 2002, стр. 149.
[15] См.: Б л у м Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 1998.
[16] Б а р т Р. Зази и литература. — В кн.: К е н о Р. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 1. Упражнения в стиле. Романы, рассказы и др. СПб., «Симпозиум», 2001, стр. 537.
[17] Г е г е л ь Г.-В.-Ф. Эстетика. М., «Искусство», 1968, т. 1, стр. 33.
[18] П о д о р о г а В. А. Мимесис, т. 1, стр. 363.
[19] В этом контексте можно вспомнить исследования Вильгельма фон Гумбольдта по философии языка: «Цивилизации и культуре часто приписывают то, что никак не может быть их порождением, но производится силой, которой они сами обязаны своим существованием» (Г у м б о л ь д т В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. — В кн.: Г у м б о л ь д т В. Избранные труды по языкознанию. М., «Прогресс», 1984, стр. 56).
[20] Интересно, что при заметном внимании к работам Жиля Делёза, Подорога никак не комментирует отношение французского философа к самому концепту мимесиса: «…подражание или имитация саморазрушается, если имитатор, сам не зная об этом, входит в становление, сопрягается со становлением, не зная того, что он имитирует. <…> Имитация может быть понята либо как сходство терминов, находящих свою кульминацию в архетипе (серия), либо как соответствие отношений, конституирующих символический порядок (структура); но становление не сводимо ни к тому, ни к другому. Концепт мимесиса не только недостаточен, он радикальным образом ложен» (Д е л ё з Ж., Г в а т т а р и Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, «У-Фактория», М., «Астрель», 2010, стр. 507).
[21] Нужно, однако, оговориться, что, как правило, Подорога ведет речь об особом типе коммуникации: «…ницшевские тексты коммуникативны, но в том парадоксальном смысле, в каком может быть коммуникативной коммуникация без „обратной связи”» (П о д о р о г а В. А. Выражение и смысл, стр. 226).
[22] Любопытно заметить, что необходимость подобного подхода к авторам, не вписывающимся в традиционные цепочки аналогий, открыто провозглашал в своих эссе Антонен Арто: «Вместо того чтобы истолковывать Жерара де Нерваля через мифологию и алхимию, следовало бы толковать алхимию и ее мифы через поэзию Нерваля» (A r t a u d A. On the Chimeras. — In: «Watchfiends & Rack Screams. Works from the Final Period by Antonin Artaud». Boston, «Exact Change», 1995, p. 56). Определенную общность с этими взглядами можно обнаружить у Хорхе Луиса Борхеса в эссе «Кафка и его предшественники» (без сомнений, хорошо известном Подороге): авторы, повлиявшие на австрийского писателя, — Зенон, Кьеркегор, Броунинг — парадоксальным образом оказываются лучше поддающимися анализу через его тексты, словно дело обстоит наоборот, и Кафка сам создавал своих предшественников и оказывал на них влияние (Б о р х е с Х.-Л. Кафка и его предшественники. — В кн.: Б о р х е с Х.-Л. Коллекция. СПб., «Северо-Запад», 1992).
КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА ЧАНЦЕВА
+9
П а с к а л ь К и н ь я р. Ладья Харона. Перевод с французского И. Волевич. М., «Астрель», 2012, 283 стр.
Сравнение книг с напитками банально, но иногда точно. Если Уэльбек — это шот сурового абсента в одиночестве, Бегбедер — капучино в трансатлантическом кафе, то Киньяр — это изысканные французские вина лучших кровей и почтенных лет в античной библиотеке. Условный сюжет «Лестниц Шамбора», «Всех утр мира» и «Террасы в Риме» (в «Ладье», кстати, тот же герой) Киньяр здесь отбросил ради свободного эссе, перетекания биографического, как в таких же каприччо «Сердце искателя приключений» Э. Юнгера. Они вообще похожи (не поэтому ли Юнгеру так нравилось во Франции?) — утонченная мысль настояна на благородном одиночестве и стоической меланхолии. Стоической и эпикурейской одновременно — и это не оксюморон, Киньяр умеет получать наслаждение от своего обособленного миросозерцания («одиночество — самый ценный опыт»).
Он с удовольствием, как Жак ле Гофф в «Героях и чудесах Средних веков», разбирает средневековые легенды, вспоминает обычаи (в XVIII веке во Франции при дворе любили ставить черепа, чтобы оттенить свои куртуазные плезиры) и копается в семантике древних слов. Он описывает свой дом — на отшибе, у излучины реки, где раньше чернели остовы брошенных гнить лодок. Киньяр весь в барочной музыке и античных эклогах, но не забывает и о современности, для которой у него заготовлен не очень обнадеживающий диагноз. «Семья обезличивает членов семьи. Общество стандартизирует членов общества. Границы общественного (res publica) расширились за счет безудержного опошления и тиражирования всего „личного” (res privata) — воспитания, веры, образования, болезней, супружеской жизни, старости, смерти. Даже зародышей и тех уже фотографируют в чреве матери»; «Чего стоит формула „каждый за себя”, если каждый себя ненавидит?!». Высокий эстетизм Киньяра приводит его чуть ли не к экзистенциальному анархизму: «Поскольку одиночество предшествует рождению, не следует защищать общество как некую ценность. Не-общество — вот цель». Из социальных тенет индивид высвобождается на самом деле очень легко — благодаря чтению (человек приобщается к опыту великих одиночек прошлого, он уже откололся от общества «одним простым жестом — всего лишь переворачивая страницы своей книги») и самоубийству (он развивает давнюю мысль, что это единственная человеческая свобода). Глубокий греческий стоицизм близок буддийскому очищению сознания: «Аномальные мысли весьма нечасто рождаются в людских головах, переполненных заботами о семье, языке, образовании, долгах. <…> Что же позволяет нам острее всего ощутить чувство свободы? Способность забыть, что на нас смотрят. Перестать быть кем-то — ребенком или стариком, женщиной или мужчиной, отцом или матерью, сыном или дочерью».