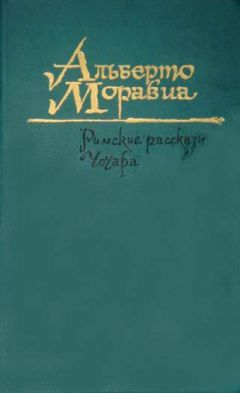— Эй вы, выходите. Выходите сейчас же!
Он задыхался и размахивал револьвером, но не для того, чтобы запугать нас, а так, для пущей важности. Двое других мужчин убирали с дороги телеграфный столб. Я сразу поняла, что нам не остается ничего другого, как сойти с машины, и сказала Розетте:
— Слезай, что ли.
Но только я хотела открыть дверцу, как блондин, все еще стоявший на подножке, вдруг что-то увидел на дороге, а двое других делали ему какие-то знаки. Он грязно выругался, соскочил с подножки, подошел к ним, и я увидела, что они все втроем бросились бежать в лес, прячась за пробковыми деревьями, и скоро исчезли из виду. Мы остались совсем одни, труп Розарио лежал прямо посреди дороги, телеграфный столб уже успели оттащить к обочине.
Я говорю Розетте:
— Что же мы будем делать?
В это время на дороге показался маленький военный автомобиль, в котором сидели два английских офицера, а за рулем — шофер-солдат. Автомобиль замедлил ход, потому что Розарио лежал как раз посреди дороги, хотя они могли объехать его; офицеры посмотрели на труп, потом на нас с Розеттой, и я увидела, что один из них делает шоферу знак, как будто хочет сказать: «Какое нам дело до них, поехали».
Машина объехала Розарио, прибавила скорость и очень быстро скрылась за поворотом дороги. Я вдруг вспомнила о деньгах, которые Розарио засунул под сиденье, протянула руку, достала сверток и спрятала его у себя на груди. Розетта заметила это, и мне показалось, что она посмотрела на меня с укоризной. Вдруг мы услыхали скрип тормозов, и рядом с нами остановилась грузовая машина.
На этот раз за рулем сидел итальянец, маленький такой, с большой лысой головой, лицо бледное и покрытое потом, круглые выпученные глаза и длинные бачки, доходившие ему до середины щек. Лицо у него было испуганное и недовольное, но не злое, а как у человека, которому приходится поневоле совершать смелый поступок и который в глубине души проклинает свою судьбу за то, что ему пришлось помимо воли быть храбрым.
Он спросил торопливо:
— Что случилось? — а сам не слезал с грузовика и не отнимал рук от руля.
Я сказала:
— Нас остановили какие-то люди, убили вот этого парня, а потом убежали хотели обокрасть нас. И вот теперь мы, бедные беженки…
Он прервал меня:
— Куда они убежали?
Я показала в глубину леса; его глаза испуганно проследили за моим пальцем, и он воскликнул:
— Ради бога, садитесь скорее на мой грузовик, если хотите ехать в Рим, но только скорее, скорее, ради бога.
Я поняла, что он вот-вот может уехать, поэтому быстро слезла с нашего грузовика и потянула за собой Розетту. А он закричал нам плачущим голосом:
— Отодвиньте это тело, отодвиньте его, а то как же я проеду?
Я посмотрела и сразу сообразила, что грузовик ведь намного шире, чем маленький автомобиль англичан, поэтому он не мог пройти между канавой и телом Розарио
— Ради бога, скорее! — торопил он нас своим жалобным голосом.
Тогда я набралась храбрости и говорю Розетте:
— Помоги мне!
Мы подошли к телу Розарио; он лежал на боку, а рука была поднята над головой, как будто он хотел уцепиться за что-то, но не успел. Я наклонилась и взяла его за ногу, Розетта схватила за другую, и с трудом, потому что он был очень тяжел, мы потащили его к канаве, волоча по земле, так что его плечи, голова и распластанные руки мели асфальт. Розетта первая выпустила его ногу, я вслед за ней; потом я быстро нагнулась над ним, чтобы увериться, что он мертвый: сверток-то с его деньгами находился у меня за пазухой, мне не хотелось лишаться этих денег, в которых мы теперь так нуждались, и поэтому я решила убедиться, что он на самом деле умер. Он был мертвый, я это поняла по его глазам — они были открыты и блестели, а взгляд остановился навеки. Признаться, я поступила подло и корыстно, так поступила бы Кончетта, ведь, как она говорила, «война — это война». Я украла деньги у мертвеца; из-за этих денег я даже боялась, не жив ли он еще; но, как только я убедилась, что он умер, я захотела покрыть свой преступный страх религиозным жестом, который мне ничего не стоил. Человек на грузовике кричал мне:
— Успокойся, он умер, ему уже ничем не поможешь.
Но я все-таки быстро нагнулась и сделала указательным и средним пальцами знак креста на груди у Розарио, как раз в том самом месте, где на его куртке расплылось большое темное пятно. Когда я коснулась пальцами куртки, я почувствовала, что она мокрая; и, уже подбегая вместе с Розеттой к грузовику, я украдкой взглянула на кончики пальцев и увидела на них кровь, красную и свежую, только что вытекшую из человеческого тела. При виде этой крови мною овладело раскаяние, почти отвращение к самой себе, что я так подло сделала знак креста на теле человека, у которого только что украла деньги; я надеялась, что Розетта не заметила этого. Но когда я вытирала пальцы об юбку, то увидела, что Розетта смотрит на меня, и поняла, что она за мной наблюдала. Мы влезли в кабину, сели рядом с водителем, и грузовик тронулся.
Мужчина нагнулся над рулем, вцепился в него обеими руками, глаза его были вытаращены, а лицо белое, как мел, видно, перетрусил он порядком; а меня все мучили деньги, спрятанные на груди; Розетта смотрела перед собой, неподвижная и безразличная, на лице ее не было написано никаких чувств. Мне пришло в голову, что мы все трое, пусть и по разным причинам, нехорошо обошлись с Розарио: его убили, как собаку, а мы бросили посреди дороги; шофер-итальянец даже не вылез из грузовика, чтобы проверить, умер он или нет; я решила убедиться в его смерти только из-за денег, которые у него украла; Розетта оттащила его за ногу в ров, как вонючую падаль, — и все тут. Ни в ком из нас не было ни жалости, ни человеческой симпатии; умер человек, а всем было на это наплевать, каждому по своим причинам. Одним словом, как говорила Кончетта, — это была война, и я боялась, что эта война будет продолжаться в наших душах и тогда, когда она уже кончится. Но хуже нас всех поступила Розетта: ведь за полчаса до этого они с Розарио были такие близкие, она возбуждала в нем желание и удовлетворяла его, давала ему и получала от него удовольствие, а теперь вот сидит неподвижная, безразличная, бесчувственная, даже слезинки на глазах нет. Да, все идет не так, как должно было бы идти, все в жизни перевернулось вверх ногами, запуталось: важные вещи перестали быть важными, а ничтожные стали иметь большое значение. И вдруг случилось такое, чего я никак не могла ожидать: Розетта, на лице которой, как я уже сказала, не отражалось никакого чувства, вдруг запела. Сначала так тихо, как будто ее душили, потом все громче и увереннее; она пела ту самую песенку, которую я попросила ее спеть незадолго до того, а она не смогла петь и оборвала на первом же куплете. Это была модная песенка, которую пели года два назад и которую Розетта любила напевать, как я уже говорила, занимаясь по хозяйству; ничего в этой песенке не было особенного, обычные слащавые глупости, и сначала мне показалось чудным, что Розетта пела эту песенку: теперь, после смерти Розарио, я усмотрела в этом еще одно доказательство ее бесчувственности и безразличия. Но потом я вспомнила, что, когда я попросила ее спеть, она мне ответила, что не может петь, потому что ей не хочется, а я тогда еще подумала, что она изменилась и не может петь потому, что она уже не прежняя Розетта. И вдруг мне пришло в голову, что она поет теперь для того, чтобы показать мне, что это неправда: она ничуть не изменилась и осталась прежней — такой доброй и кроткой Розеттой, невинной, как ангел. Подумала я об этом и взглянула на Розетту — глаза ее были полны слез; глаза были широко раскрыты, и из них все капали слезы и текли по щекам, а я смотрела на нее, и на душе у меня становилось радостно — не изменилась моя Розетта, чего я так боялась; и я поняла, что Розетта плачет о Розарио, погибшем собачьей смертью, плачет о себе, обо мне и о всех людях, искалеченных войной. Значит, не только Розетта осталась прежней, но и я такая же, как была, хотя и украла деньги у Розарио, и все люди, которых война изменила на время по своему подобию, могут вернуться такими же, какими были до войны. Мне как-то сразу легче на душе стало; я подумала: «Как только приедем в Рим, я отошлю эти деньги матери Розарио». Я ничего не сказала, только просунула свою руку под локоть Розетты и сжала ей руку. Грузовик мчался по направлению к Валлетри, а Розетта все пела эту песенку, кончала ее и начинала снова; перестала она петь только тогда, когда слезы перестали катиться из ее глаз. Хозяин грузовика — он, наверно, был неплохой человек, только очень испугался- кажется, заподозрил что-то, потому что вдруг спросил у нас:
— Этот парень, которого убили, был ваш родственник?
Я быстро ответила:
— Это был совсем для нас чужой человек, спекулянт, предложивший отвезти нас в Рим.
Он вроде испугался еще больше и говорит: