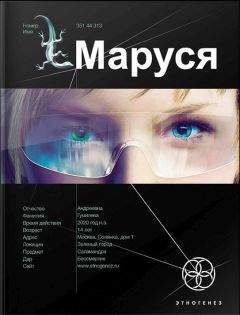Остальные — зачем?
(5) Теперь «Паук». Главный герой (Рэйф Файнс) — измученный, за гранью добра и зла, едва передвигающий ноги мужчина среднего возраста. Кажется, выпущен из сумасшедшего дома за примерное поведение. Возвращается в город своего детства, поселяется в приюте для отверженных, реконструирует прошлое. Главное достояние — тетрадь, куда он целеустремленно записывает свои теперешние представления о событиях тридцатилетней давности. Итак, писатель! Что-то вроде «…Руссо, чья „Исповедь“ ознаменовала рождение литературного героя нового времени — плебея… использующего жанр исповеди для самооправдания, а главное, для превращения своей жизни в литературный текст» (А. Жолковский).
Так, да не так.
Самооправдание? — Безусловно. С другой стороны, деклассированный герой Кроненберга навряд ли сориентирован на аудиторию и социальный эффект. Кому же, в таком случае, предназначены невразумительные каракули в пухлой тетрадке? Оправдание — перед кем? На кого работает этот «безостановочно действующий автомат», эта «бесконечно мощная оправдательная машина текста», которая, о чем догадается лишь предельно внимательный зритель, окажется в результате «машиной вымысла — источником литературности и невменимости вины» (опять-таки Жолковский)?
Цитируемый автор указывает на «глубокое внутреннее расщепление личности Руссо — одного из первых людей модернистской эпохи». Итак, удовлетворимся самым тривиальным объяснением — так называемым «расщеплением». Впрочем, в кинематографическом случае это объяснение непродуктивно, потому что якобы «расщепленный» персонаж остается тем не менее в пределах одного и того же тела — тела протагониста. Напомню: кино работает с телесностью, «внешним».
Тогда «письмо» здесь — это не то же самое, что у Руссо, Толстого или Лимонова. Его «оправдательная» задача фактически упраздняется. Скорее это «письмо», выступая в качестве переключателя модальности, просто обозначает мыслительный процесс, работу сознания, неподконтрольную зрачку киноаппарата. В кинематографе «письмо» — пластический эквивалент «внутреннего». Таким образом, Кроненберг актуализирует сферу невидимого: «В голове этого человека происходят неопознанные процессы».
(6) «Мышление человека совершается внутри его сознания, закрытого настолько, что по сравнению с ним любая физическая закрытость — нечто, явленное всем (Offen-da-liegen)» (Л. Витгенштейн).
(7) В совершенно безумной и оттого привлекательной ленте Пола Верхувена «Звездный десант» есть поразительный эпизод. Высадившись на планету насекомых, доблестные земляне захватили в плен огромного, с двухэтажный дом, мерзкого и слизистого не то Паука, не то Таракана. Этот Чужой, этот Другой — не кто иной, как «Верховный Мозг» насекомой нации. Как с этим чудовищем общаться, как допрашивать?
Вызвался сообразительный американский десантник, вроде бы толмач, приложил ладонь к слизистой оболочке «Верховного» врага. «Наши» замерли в ожидании ценной информации. Томительная пауза, долгожданный, вполне предсказуемый «перевод»: «Бои-ится!» Бесстыдная пропаганда принимается собравшимися за полезную информацию: всеобщий восторг, самодовольство, аплодисменты.
Во-первых, сценаристу картины за этот восхитительный и беспощадный ход полагаются все мыслимые премии. Во-вторых, лучшей иллюстрации к вышеприведенной цитате из Витгенштейна нельзя даже вообразить.
(8) «Иностранные наблюдатели… описывают… упорное нежелание допрашивать пленных офицеров…» (Уткин А. Первая мировая война. М., 2002, стр. 115). Смертельно поражает, валит с ног словечко «упорное». То есть как это? А чем же занимались — вместо? Все эти князья, генералы и поручики. Пили, играли, насиловали? Почему бы не поговорить, не выведать вражеские секреты?!
Вот это «упорное нежелание» — самый страшный, самый беспощадный антирусский аргумент, который мне приходилось слышать и который я не могу не признать за справедливость.
Верно, облеченный даже пустяковой властью русский любит, нацепив портупею, покрасоваться. Поговорить за водкой с бабами и приятелем. О какой-нибудь заведомой туфте. О доблестях, о подвигах, о славе. А надо бы работать, допрашивать пленных. Ловить и допрашивать, допрашивать и снова ловить. По-человечески, уважительно интересоваться: что замышляете, на каком направлении? Шевелить мозгами, анализировать.
Поговорите со мной, поинтересуйтесь моими настроениями! А может, у меня уже заначена граната? В смысле — идея. Черта с два, элита пьет и закусывает.
(9) Итак — «Вор», кажется, получивший все мыслимые «Ники» и даже номинированный на «Оскара». Отец малолетнего героя погиб на фронтах Великой Отечественной и теперь, в послевоенной суете, являет себя десятилетнему пареньку, точно призрак отца Гамлета: «Ты отомстишь за меня?» Господи, кому?! Гитлеру, Сталину, Берии, Политбюро, Богу, а может быть, черту? Или эта реплика мне почудилась? Навряд ли. Но пересматривать такое кино по доброй воле — Боже упаси!
Мать между тем сходится с молодцеватым офицером-фронтовиком, который на поверку оказывается ряженым, вором. Однако вор теперь за Отца. Иначе говоря — Отчим. Забеременев от этого, с позволения сказать, дубликата, мать благополучно умирает. Паренек тоже «предает» Отца, добровольно подставив Отчима на его место: «Папка, папка!» Ясное дело, простому советскому пареньку нужен Авторитет, здесь и сейчас. Однако отсидевший в очередной раз Отчим быть Отцом не желает и повзрослевшего паренька за Сына не признает!
Финал: наши, постперестроечные времена, очередной региональный конфликт, где заматеревший Сын, полковник российской армии, встречает все того же опустившегося Отчима, уже старика. По-прежнему безотцовщина! Не к кому приткнуться! Ни бабы, ни детей, ни идеалов! Бедный, бедный постсоветский офицер типа мужчина. На груди у подозрительного старика — знакомая татуировка, «сталинский портрет». «Отец?!» — «Да нет, обознался…»
Короче, непотопляемый Голявкин: «Мой добрый папа». Патернализм, инфантилизм, сопли.
(10) Предельно талантливый советский сюжет: старинный рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится явным». Советский мальчик Дениска кушал противную манную кашу, сваренную мамой. Не докушав, вывалил содержимое тарелки за окно. Естественно, мальчишеская подлость мгновенно обнаружилась. Некий посторонний дядя, шляпу которого поразила клейкая манка, безошибочно отыскал квартиру маленького негодяя, осуществившего бомбардировку. Мальчик пристыжен, точнее, морально уничтожен. Мама и ее потенциальный партнер торжествуют победу. Извините, все тот же единственно возможный советский сюжет.
Восхищает пластическая точность. Новоявленный «Отец» является не сверху, не с Небес («у Отца Небесного сосчитан каждый волос на вашей голове»), а снизу, вроде как из преисподней (немудрено, ведь он ряженый, дубликат).
Текст Драгунского гениально демонстрирует, как устроено советское коллективное тело, трехголовое чудище: Отчим — Мать — Сын. Никакой самодеятельности, претензия личности на эмансипацию моментально выявляется и наказывается. А где же настоящий, заботливый и ответственный, Отец? Как водится, погиб в схватке с врагами, а теперь, в мирной жизни, простер свои совиные крыла над живыми.
«Возвращались домой солдаты.
Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется…»
(В. Голявкин).
(11) Мифологическая фигура победившего врагов, но не вернувшегося с полей сражений «Доброго папы» — палочка-выручалочка советского режима, обоснование его святости и неподсудности. Поэт Юрий Кузнецов стал единственным деятелем отечественной культуры, посягнувшим на право Мертвого отца — властвовать над живыми.
Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать!
Стоит дорого, дороже всех, вместе взятых, диссидентских и либеральных заклинаний. Этот, на грани абсурда, жест доброй воли не оценен по достоинству и теперь. Стоило мне защитить живого русского солдата от бессовестных посягательств Александра Рогожкина («Кукушка») — иные зафыркали, заголосили, заскрежетали зубами. Потому что их советская ментальность определяется тотальным влечением к Мертвому отцу. Не к Живому или Небесному, а именно к Мертвому. Ему клянутся, ему присягают герои советской культуры, начиная с приснопамятной «Заставы Ильича», кончая обласканным «Вором».
Отец, — кричу, — ты не принес нам счастья!
Ни одна вменяемая культура не осмелилась бы на «Вора» через двадцать пять лет после этой кузнецовской строки. (Пост)советская — сколько угодно!
(12) «Фрейд, установивший символическую близость эротики огню, показал, что мочеиспускание… у мужчин обыкновенно противостоит коитусу. Это связано с блокировкой мочеиспускания в состоянии эрекции: „Взрослый знает, что в действительности два этих акта несовместимы — как несовместимы огонь и вода… Относительно противоположности этих двух функций мы можем сказать, что мужчина заливает свой собственный огонь своей собственной водой“» (М. Ямпольский).