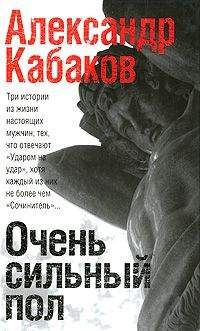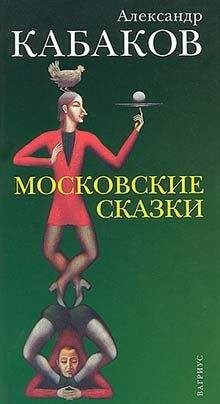С Сережей подружились после того, как обнаружилось, что Кристапович отлично помнит его еще по коктейль-холловским временам – разносторонний Сережа играл там на рояле. Кристаповичу был симпатичен этот лихой, явно неглупый и добрый еврей, весь в седых кудрях, сильно хромой красавец, непременный человек всюду, где шла эта нынешняя странная московская жизнь, – на каких-то ночных концертах нового, не похожего на джаз джаза, на вернисажах в обычных квартирах где-нибудь у черта на рогах, в новостройках, на приемах у дипломатов, куда приглашали со смыслом, которого Кристапович никак не мог понять…
– Многое изменилось в семидесятые, – говорил Сережа, вытаскивая бутылку коньяка из джинсов, мудаковатых этих штанов, к которым старик так и не притерпелся. – Многое изменилось, и контора – уже не та контора…
– Контора – это всегда контора, – говорил Кристапович. – Честное слово, Сережа, вы ошибаетесь… Если бы вы были правы и это была бы уже не та контора, мы бы не здесь сейчас с вами выпивали, а там… Где-нибудь на Майорке…
И однажды Горенштейн сказал:
– Вы были правы, Миша… Я понял – здесь нужно по-другому… И кажется, теперь есть случай… мне нужен именно ваш совет…
– Почему именно мой? – поинтересовался Кристапович, хотя он уже догадывался почему.
– Вы мне кое-что рассказывали о той вашей жизни… На войне и после войны… О вашем принципе ударом на удар… – ответил Сережа. – Если вы не придумаете, что сделать в этом случае, никто не придумает.
– Я придумаю, – пообещал Кристапович.
Он и действительно придумал.
…Елена Валентиновна провела август на юге, а в первых числах сентября ехала с Курского домой – по обыкновению, с одним клетчатым чемоданишкой на молнии и никуда не влезающими ластами. Отпуск удался, плавала она, как всегда, часами, вызывая неодобрительное удивление курортных дам отсутствием – почти полным – нарядов, живота, дамских интересов, наличием очков и отличным кролем. Местные молодые люди – не те, которые проводили дни, рыская в изумительных плавках по пляжам санаториев и поражая приезжих водобоязнью и буйной растительностью, а вечерами сидели в машинах с открытыми в сторону тротуара дверцами, выставив наружу ноги в спортивной обуви и руки в затейливых часах, – а те, что днем делали какую-то необходимую даже в этой местности работу, а под вечер приходили к морю и сразу выныривали метров за десять… Эти прекрасно сложенные и молчаливые юноши, явно побаивающиеся женщин, и особенно блондинок, ее почему-то отличали, звали играть в волейбол, и Елена Валентиновна старалась принимать пальцами, иногда забывая даже беречь очки…
Один из этих смуглых атлетов, механик с местной ТЭЦ, разрядник едва ли не по всем существующим видам, причем не на словах, как водится в тех краях, а, судя по плаванию и волейболу, и правда первоклассный спортсмен, вскоре начал приходить на этот, числящийся закрытым пляж чаще других. Они плавали вместе, он выныривал то справа, то слева, вода стекала с его сверкающих, как котиковый мех, коротко стриженных волос, он молча улыбался ей, вода затекала за его плотно стиснутые зубы, каких она прежде в жизни не видела, вода сверкала на его ресницах, более всего подходящих томной девушке, а не восьмидесятикилограммовому грузину, вода поднималась к горизонту зеленым горбом, над которым едва возвышалась зубчатая черточка пограничного катера, и вода уходила назад, к пляжу, косыми отлогими волнами, неся редкие головы робких санаторных пловцов, зеркально отражая солнце, и в этом блеске слабо вырисовывался исполосованный балконами корпус, и чье-то яркое полотенце рвалось с чьего-то шезлонга в небо – и он снова нырял, не гася улыбку и так и не разжав хотя бы в едином слове изумительных зубов.
За два дня до отъезда она привела его к себе в номер.
Соседка уже улетела в свой Харьков, заезд бесповоротно кончался, а новый еще не начался – она была одна. Он пришел в белой рубашке и, конечно, в нескладных местных джинсах. И только теперь, в темноте, она заметила, что глаза у него светлые, очень светло-серые глаза, совсем не здешнего, масличного цвета… Среди ночи на него напал кашель, он давился в подушку, испуганно косясь на тонкие казенные стены. Он боялся, и его испуг едва не помешал всему – а она изумлялась его светлым глазам, своей ловкости и настойчивости и вообще всему – механик, боже мой…
Дато проводил ее до вокзала, а к поезду почему-то не подошел – повернулся, перебежал площадь, зажимая в руке адрес и телефон, и вскочил в раскаленный вонючий автобус, отходящий в селение, откуда он был родом, – она не смогла отговорить его от сообщения матери. Ночью в темном купе, измученная прокисшим поездным воздухом и собственной труднопоправимой глупостью, она расплакалась, яростно утираясь отвратительной даже на ощупь простыней.
В нижней квартире она забрала кипу газет, какие-то счета и переводы, письма дочери из спортлагеря, таксика Сомса, плачущего от счастья, и поднялась к себе. На всем лежала сиреневая пыль. Впереди был год работы, по утрам девочки в ОНТИ будут жаловаться на мужей, кое-что описывая шепотом, будет невыносимый, темный и дождливый декабрь, и дай бог дожить до лыжной погоды… Сомс то прыгал, то ползал на животе, стонал и припадал к коленям. Из пачки газет выпало странное письмо – конверт с цветными косыми полосками по краю, ее адрес и имя были надписаны латиницей. Обратный адрес с трудом разыскала на обороте – письмо было из Милана. От начала и до конца было написано, как и следовало ожидать, по-итальянски. Надо же, не по-немецки и не по-английски, что она с ним будет делать? Подпись была разборчива, но совершенно незнакома. «Попрошу завтра в отделе… Стеллу попрошу, она приличная девка… пусть прочтет… непонятно, кто это мне может писать из Милана… может, по книжной ярмарке какой-нибудь случайный знакомый… но я вроде никому адреса не давала…» Елена Валентиновна была озадачена, но в меру – бывали у нее знакомые в том загробном мире, время от времени она прирабатывала, переводя на каких-то конгрессах и симпозиумах, ярмарках и выставках, работа эта была не слишком приятна – хамство, с одной стороны, безразличное презрение, как к муравьям, – с другой… Но деньги постоянно были нужны, отказываться не приходилось, более того – за такую работу боролись, и давала ей эти наряды та же Стелла, муж которой чем-то эдаким занимался не то во Внешторге, не то в МИДе, не то еще где-то… Но в Италии у нее, кажется, никаких знакомых не было и быть не могло, с ее основным немецким и вторым английским. Впрочем, черт их знает, где они там, в своем мире сказок, живут.
И она, спрятав письмо в сумку, принялась разбирать чемодан, стирать, вытирать пыль – хотя бы в кухне для начала…
Стелла была на больничном и вышла только через неделю. Письмо они прочли в обед, и у Елены Валентиновны сразу как начало звенеть в голове, так и звенело, пока отпрашивалась, ехала домой, поднималась в лифте. Все ее недоумения, опасения и догадки, связанные с письмом, отлетели и уже успели мгновенно забыться – то, что шепотом прочла пораженная до заикания Стелла, не имело, не могло иметь ничего общего с нею, с ее жизнью. И тем не менее это было, было написано простым итальянским языком и нисколько, ни капельки не было похоже на шутку! Жизнь едва заметно покачнулась, и в голове Елены Валентиновны все звенело, звенело…
Она открыла дверь и в комнате, прямо напротив, увидела в кресле Дато. Он сидел, глубоко откинувшись и разбросав ноги в тех же наивных штанах. В животе его, чуть выше кустарной медной пуговицы, торчала наборная рукоятка ножа. Кровь уже потемнела на той же белой рубашке. Елена Валентиновна закричала без голоса и упала на пол в прихожей. Из-под дивана тихо завыл Сомс. В открытую дверь протиснулся человек, перешагнул через Елену Валентиновну, захлопнул дверь, прошел в комнату, сел на диван, закурил. Сомс оборвал вой и зарычал. «Тихо, собачка, – сказал человек, – тихо, слушай…»
– Сережка, а не выдумал все это твой иностранец? – спросил Кристапович. Окурки «беломора», из мундштуков которых вылезали ватки, громоздились в пепельнице – старой немецкой пепельнице синего стекла с выдавленным на дне оленем. Кристапович двинул пепельницу по столу, окурки посыпались, и обнаружилось, что под ними лежит перочинный нож со штопором – а его искали час назад по всей комнате. Кристапович закашлялся, отдышался, глотнул коньяку. – А может, и не выдумал… То-то я ее уже давно во дворе не вижу… Ну, давай, давай дальше…
Месяцы этой зимы летели, как летит время во сне – тянется, тянется – и вдруг все, конец, пробуждение, и оказывается, что и всего-то длился весь кошмар минут пятнадцать… Начиная с первых слов Георгия Аркадьевича – «Зачем молодого любовника резать? Нехорошо, слушай, мать второй год чачу на свадьбу варит, он от невесты отказывается, в Москву едет, к пожилой москвичке, слушай, а она его финкой – а?» – начиная с этого видения, бреда все пошло без перерывов. И сон, когда наконец приходил под утро, тоже не давал перерыва: все то же, рукоять из веселых пластмассовых колец, Георгий Аркадьевич, без видимых усилий выносящий тяжелый и длинный сверток к своей машине, и опять Георгий, омерзительная глупость его важных манер, глупость каждого движения, глупость пиджака, застегнутого под животом, выпирающим над низко сидящими брюками, глупость непропорционально маленьких рук и ног, золотых цепочек и всяких блестящих штук, которыми была со всех сторон обвешана и облеплена его машина… Время от времени он находил какую-нибудь самую идиотскую форму, чтобы дать ей понять – он твердо уверен, что именно она убила Дато, но он… ради нее… и вообще… Глупость и ужас…